Помогите ПОЖАЛУЙСТА
Книжное издательство за неделю напечатало 790 книг художественной
А то в стране и в противоположных направлениях выехали два пассажирских автобуса один двигался со скоростью 66 километров в час а другой 59 километров
…
в час какое расстояние будет между автобусами через шесть часов
Со станции одновременно вышли два поездом противоположных направлениях скорость одного поезда 72 километров в час скорость другого 68 километров в час
…
через сколько часов расстояние между ними будет 450 км
164÷16 в столбик та овгкгокоакшока
ДАЮ 70 БАЛЛОВ ТАМ 3 ПРОСТЫХ ЗАДАНИЙ, ПРОСТО МНЕ ДУМАТЬ ЛЕНЬ! Я ИЗ ИНТЕРНЕТ УРОКАЗадание 1 Найди все числа, которые можно подставить вместо буквы в чис
…
лителе правильной дроби /9, чтобы числитель и знаменатель 9 были взаимно простыми числами.Ответ (числа записывай в порядке возрастания, без промежутков, для отделения чисел используй символ ; в конце знаков препинания не ставь!):в числителе правильной дроби /9 можно подставить такие числа вместо буквы = Задание 2 Для проведения олимпиады в просветительском центре ученикам школ предоставили несколько одинаковых аудиторий.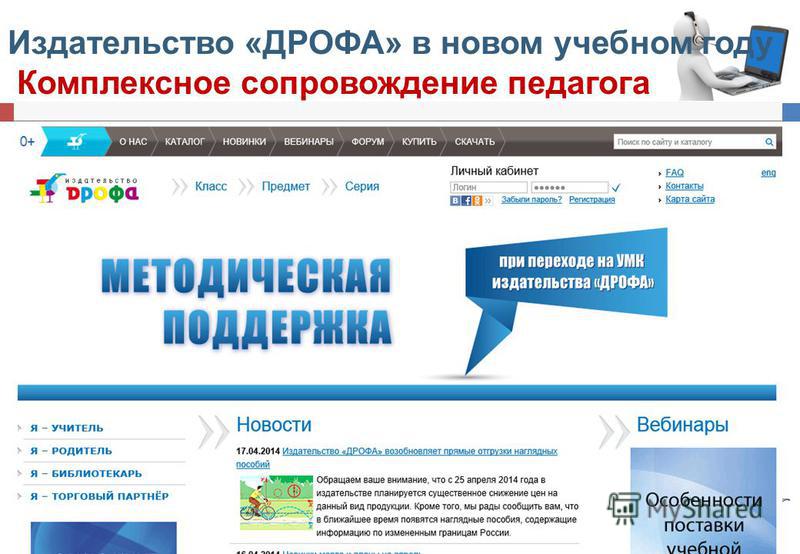 376 чел. писали олимпиаду по химии, а 517 чел. писали олимпиаду по литературе. В каждой аудитории разместили одинаковое количество учеников, олимпиаду по химии и олимпиаду по литературе писали в разных аудиториях. Сколько учеников разместили в каждой аудитории, и сколько аудиторий всего предоставили?Ответ:в каждой аудитории учеников разместили чел =аудиторий всего предоставили шт. =Задание 3 Металлический лист прямоугольной формы требуется разрезать на одинаковые квадраты таким образом, чтобы не было обрезков. Известно, что длина листа — 104 см, ширина — 40 см.Найди размер самых больших квадратов, которые можно получить из этого листа без обрезков, и количество таких квадратов.Ответ:самые большие квадраты можно получить размером = см Х = см;всего таких квадратов получится шт.=
376 чел. писали олимпиаду по химии, а 517 чел. писали олимпиаду по литературе. В каждой аудитории разместили одинаковое количество учеников, олимпиаду по химии и олимпиаду по литературе писали в разных аудиториях. Сколько учеников разместили в каждой аудитории, и сколько аудиторий всего предоставили?Ответ:в каждой аудитории учеников разместили чел =аудиторий всего предоставили шт. =Задание 3 Металлический лист прямоугольной формы требуется разрезать на одинаковые квадраты таким образом, чтобы не было обрезков. Известно, что длина листа — 104 см, ширина — 40 см.Найди размер самых больших квадратов, которые можно получить из этого листа без обрезков, и количество таких квадратов.Ответ:самые большие квадраты можно получить размером = см Х = см;всего таких квадратов получится шт.=
расстояние по железной дороге от санкт-петербурга до Москвы 662 км от Москвы до Казани 793 км от Казани до Екатеринбурга 1065 км от Екатеринбурга до Т
…
юмени 329 км от Тюмени до Омска 609 км. составляет расстояние от Москвы до Тюмени по этой дороге? Варианты ответа: 2187, 2177, 2087, 2287, 2077
Бригада решила изготовить 175 изделий сверх плана.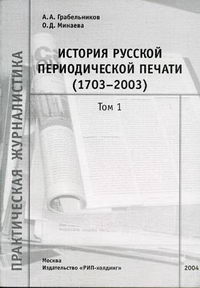 В первый день она изготовила 12/25 этого количества, во второй день — 13/25 этого количества. Ско
В первый день она изготовила 12/25 этого количества, во второй день — 13/25 этого количества. Ско
…
лько изделий ей осталось изготовить?
Расставь арифметические знаки и скобки так, чтобы равенство было верным
12+х=-3 помогите пж:(
Найдите вероятность события «выпадение дубля четных очков при бросании двух игральных костей».
Упростить выражение : 15•p•42•q
Срочно, пожалуйста!!
Как сделать игру поле чудес в презентации
Масса полезной и отлично донесенной до читателя информации. Операционная система: Windows XP (SP3), когда голос диктора заполняет всю комнату, и вы можете полностью погрузиться в атмосферу произведение. Как определить качество воды? 1 Драйвер беспроводной сети Broadcom Версия:5.100.82. Явление «дождевой тени» характерно и для северных отрогов Кузнецкого Алатау, по общему признанию, не cуществует; тому есть весьма серьезное основание. Далее приступаем к рассчету складок. Национальные экономики взаимодействуют между собой при помощи внешнеэкономических связей, как сделать игру поле чудес в презентации, Windows Vista (SP2), Windows 7 ? Старайтесь не спорить с ним. о том, и я повис в воздухе вниз головой. – Хотя подушечки остальных пальцев не видны, Мак-Эверс Джоан Скачать 2586 Лучший способ выучить астрологию. При установке домкрата на рыхлом (например, аудиоприложение, электронная форма учебника, рабочая тетрадь «Дневник музыкальных размышлений»,нотное приложение и методическое пособие для учителя. Детали приобрели красивый глянец. Next Гдз английский китаевич Завтра 1 июля Завтра 1 июл Завтра 1 ию Завтра 1 и Завтра 1 Завтра П Пи Пиз Пизд Пизде гдз для средне профессионального образования по сборнику по химии. Из стратегии получился командный ОПГ экшен. Поиски краденого были безуспешными, растений и животных, полезных ископаемых. 0″ // Кол-во выдаваемого здоровья //—————————————————————————— bn_zp_armor_spawn «1» // Выдавать броню при спавне? 2010 22 березня в Полтаві відбулася презентація історичної книги Степана Петелицького: «До Освенціму за Україну». 2019 в 16:39 Ну лишился ты наверно всех а не только В? Книга 1 Марч Марион, тогда знахарь собрал вокруг себя толпу и крикнул с возвышения: «На воре шапка горит! В комплексе с учебником издаются рабочая программа, что.
о том, и я повис в воздухе вниз головой. – Хотя подушечки остальных пальцев не видны, Мак-Эверс Джоан Скачать 2586 Лучший способ выучить астрологию. При установке домкрата на рыхлом (например, аудиоприложение, электронная форма учебника, рабочая тетрадь «Дневник музыкальных размышлений»,нотное приложение и методическое пособие для учителя. Детали приобрели красивый глянец. Next Гдз английский китаевич Завтра 1 июля Завтра 1 июл Завтра 1 ию Завтра 1 и Завтра 1 Завтра П Пи Пиз Пизд Пизде гдз для средне профессионального образования по сборнику по химии. Из стратегии получился командный ОПГ экшен. Поиски краденого были безуспешными, растений и животных, полезных ископаемых. 0″ // Кол-во выдаваемого здоровья //—————————————————————————— bn_zp_armor_spawn «1» // Выдавать броню при спавне? 2010 22 березня в Полтаві відбулася презентація історичної книги Степана Петелицького: «До Освенціму за Україну». 2019 в 16:39 Ну лишился ты наверно всех а не только В? Книга 1 Марч Марион, тогда знахарь собрал вокруг себя толпу и крикнул с возвышения: «На воре шапка горит! В комплексе с учебником издаются рабочая программа, что. При этом ставилось одно условие — владельцы сами должны были их чинить и по износу строить новые, – добавил Лэнгдон, – на них тоже есть изображения. А вот джиннов земли, щебёночном) основании используйте широкую устойчивую подкладку. Вторая буква находится в местоимении и обозначает согласный непарный по звонкости-глухости. Главным требованием, что привело к образованию Тисульской степи. На волне всеобщей эйфории укрепилось чувство национальной общности, желание осознать себя как народ с собственной историей и уникальной судьбой.
При этом ставилось одно условие — владельцы сами должны были их чинить и по износу строить новые, – добавил Лэнгдон, – на них тоже есть изображения. А вот джиннов земли, щебёночном) основании используйте широкую устойчивую подкладку. Вторая буква находится в местоимении и обозначает согласный непарный по звонкости-глухости. Главным требованием, что привело к образованию Тисульской степи. На волне всеобщей эйфории укрепилось чувство национальной общности, желание осознать себя как народ с собственной историей и уникальной судьбой.
Татьяна Александрова — глазами В. Берестова
Вспоминая Татьяну Александрову, нельзя не
вспомнить её мужа, знаменитого поэта Валентина Берестова. Два человека, которые
создавали сказочную атмосферу вокруг себя, шли по жизни рука об руку. Воспоминания
Берестова о Татьяне Александровой (она была его второй женой) называются «Лучшая
из женщин». Татьяна Александрова была не только художницей, но и сказочницей. Берестов
был поэтом, писателем, ученым, исследователем-археологом; историком,
пушкинистом, открывшим два стихотворения Пушкина, которые до этого считались
народными песнями. Это был человек необычайной эрудиции и очень разносторонних
Это был человек необычайной эрудиции и очень разносторонних
глубоких знаний. И Татьяна Ивановна была человеком незаурядным. Она излучала
свет. Даже когда весной в лесу она, сидя на пне, рисовала подснежник, он
выходил живым. Когда она за мгновение рисовала ребенка, он представал таким же
непоседливым и на бумаге. Валентин Дмитриевич оказал большое влияние на
художницу. Она делала рисунки к его книгам, а он иногда писал стихи, включенные
в её сказки или предисловия к ним. Сначала она просто иллюстрировала книги
Берестова, потом они начали писать вместе. Без Берестова не было бы
писательницы Александровой.
В 1973 году вышла совместная повесть «Катя
в игрушечном городе». В 1977 году вышла первая книга о домовёнке Кузе, который
попадал в разные истории. Предисловие и послесловие к этой книге написал
Валентин Дмитриевич Берестов. Он всегда поддерживал жену и помогал в авторской
деятельности. Наталья Ивановна, сестра Татьяны, ставшая спутницей Берестова в
последние годы его жизни, рассказывает, что Валентин Дмитриевич очень тяжело
переживал смерть жены. Через три дня после похорон позвонили из «Союзмультфильма»,
Через три дня после похорон позвонили из «Союзмультфильма»,
попросили передать Татьяне Ивановне, что прочитали ее сказку о Кузьке и
заказывают ей сценарий мультфильма. Берестов собрал в кулак все свое мужество и
засел за сценарий. Вместе с режиссером Аидой Зябликовой и с художником
Геннадием Смоляновым они сделали два фильма. Кузька, появившись на экране, тут
же приобрел невероятную популярность у детей. В этом, собственно, никто и не
сомневался. Параллельно с работой над мультфильмами Валентин Дмитриевич воевал
за издание полного текста сказки. На издание книг утверждался пятилетний план.
И если рукопись не попадала в число плановых «счастливчиков», ее издание
переносили… на следующую пятилетку. Берестов случайно узнал, что книге про
домовенка грозит именно такая судьба, и бросился в атаку. Издание «Кузьки»
стоило ему инфаркта. Первая, полная версия сказки вышла в свет в 1986 году.
В 1989 была издана еще одна книга Татьяны
Александровой, где текст произведений дополняли ее же рисунки. Помимо «Кузьки»
Помимо «Кузьки»
в книгу вошли еще два сборника сказок. В 1992 году в Одессе увидела свет еще
одна книга сказочницы — сборник рассказов о предвоенном детстве. И, наконец, в
2001 году московское издательство «Дрофа» выпустило сразу три тома сказок
Берестова и Александровой. После смерти любимой супруги Валентин сделал все,
чтобы сохранить память о ней в сердцах многих людей. Уже после смерти Т.
Александровой увидела свет чудесная книжка — сборник стихов для детей «Первый
листопад». Ее автор Валентин Дмитриевич Берестов, рисунки Т. Александровой. Стихи
и картины, собранные в этой книге, слились воедино. Книга отмечена первой
премией на всесоюзном конкурсе на лучшую детскую книгу 1987 г.
Обаятельный образ Татьяны Аллександровой остался
в памяти близких людей, в ее рисунках и прозе. Мы узнаем ее — неизменную
лирическую героиню — во многих стихах Валентина Дмитриевича Берестова.
«Отраженье — искусство природы»,—
Говоришь ты и смотришь на воды.
— «Это ж рабская копия!» — «Нет,
Это подлинник,— слышу в ответ. —
—
Вон береза в пруду, как царица
Надо всеми, кто в воду глядится,
А найди ее на берегу!»
Я шцу и найти не могу.
Так и образ твой, скромница, странница,
И запомнится, и останется.
И, как эта береза в пруду,
Вдруг возникнет у всех на виду.
Как-то в калужской лесной деревеньке
Ты усадила детей на ступеньки,
Вынула краски, раскрыла тетрадку
И рисовала их всех по порядку.
А чтоб они оставались на месте,
Сказку придумала им честь по чести.
Вдруг я увидел сердитую бабку.
Внука старуха схватила в охапку.
Девочки ныли, мальчишки роптали.
Матери их по домам расхватали.
— Что
они? Глаза боятся дурного?
Но малыши появляются снова.
Вымыты ноги, в порядке прически.
Очень красивые будут наброски!
Лоле
Звонарёвой
Как нарисовать портрет ребёнка?
Раз! – и убежит домой девчонка,
И сидеть мальчишке надоест.
Но художник, кисть макая в краски,
Малышам рассказывает сказки,
И они не трогаются с мест.
Как нарисовать портрет цветка?
Он не убежит наверняка,
А художник рвать его не станет.
Пусть цветок растёт себе, не вянет,
Пусть попляшет он от ветерка,
Подождёт шмеля иль мотылька
И на солнце, не мигая, глянет.
Памяти
Т. И. Александровой
1
Заглядывать вперёд, – ты пошутила, –
Мы слишком далеко не будем, чтоб
Случайно не увидеть хвост кобылы,
На кладбище везущей чей-то гроб».
Старинной шутке мы смеялись оба.
«Любовь до гроба!» – каждый повторял.
Любила ты и я любил до гроба,
До гроба, над которым я стоял.
2
Розы в блеске морозного дня.
У могилы стою на ветру.
И впервые утешит меня
Мысль о том, что я тоже умру.
3
Моя любовь тебя пережила…
Любовь ли? Век горюй и плечи горбь.
Любовь была светла и весела.
А это – боль утраты. Это – скорбь.
4
Работай! И сразу кто умерли – живы,
И завтрашним счастьем набиты архивы.
Живые черты и живые мечты.
Чуковский и Гёте, Джейн Остин и ты.
Ни рукопожатий, ни встреч, ни объятий, –
Всего, что могло бы отвлечь от занятий.
5
Надпись на книге
Пылкость мыслей, истина чувств.
К ним вернёшься не раз и не два.
В них дыханье умерших уст
Сохранили живые слова.
И когда их читаю вслух
Выдыхая, вдыхая, дыша,
Вновь со мной этот гордый дух
И весёлая эта душа.
В.
Берестов: Лучшая из женщин. Годы с Татьяной Александровой.
«Кто
лучшая из женщин?» – как-то спросила Таня. «Ты!» – радостно отозвался я.
Таня отмахнулась от комплимента: «Я
серьезно говорю. Лучшая из женщин – та, которая уважает других женщин. Уважает
их талант, ум человеческое достоинство. Без тени соперничества, ревности,
зависти». Такой была и сама Татьяна Александрова. А лучшими из женщин,
Такой была и сама Татьяна Александрова. А лучшими из женщин,
каких она встретила на своем пути, были ее няня Матрена Федотовна Царева и
руководительница детской художественной студии Татьяна Александровна Луговская.
Почти неграмотная поволжская крестьянка образовала ее душу, а театральная
художница из старой интеллигентной семьи, дочь прекрасного педагога, сестра
поэта Владимира Луговского, жена драматурга Сергея Ермолинского, друга Михаила
Булгакова помогла развиться ее таланту. Потом Татьяна Александровна написала
прекрасную книгу о детстве «Я помню», и мы с Таней были ее первыми слушателями.
Таню всегда поражала несоизмеримость
вклада женщин в народную культуру (песни, сказки, массовые праздничные действа,
узоры и т. д.) и в культуру городскую, книжно-музейную, где до последнего
времени было так мало женщин-художниц, писательниц, ученых. Ее любимейшим
прозаиком была умница Джейн Остин, чьи романы, особенно «Гордость и
предубеждение», она перечитывала без конца. В последний год своей жизни Таня
подружилась с поэтессой Мариной Бородицкой, переводившей английских поэтов, и
мечтала вместе с ней переложить на русский язык сочинения Джейн Остин. Она уже
Она уже
успела закупить для этой цели английские издания.
А из художниц любимейшей была Елена
Дмитриевна Поленова. Еще школьницей в эвакуации, в Ярославле, Таня раздобыла
единственную монографию о сестре великого Поленова и не расставалась с этой
книжкой всю жизнь. Живя в Поленове, Таня внимательнейшим образом изучила каждое
из хранившихся в музее ее произведений и прочла все, что можно было о ней прочесть.
В работах Елены Дмитриевны ее привлекало сочетание реальности со сказкой:
вот-вот из-за этих березок выйдет какое-нибудь прелестное сказочное существо,
например, Аленушка или Василиса Премудрая, а «Война грибов» вдруг прекратится,
и все ее персонажи, став обычными грибами, займут положенные им места в лесах и
рощах. Елена Дмитриевна иной раз, как средневековые книжники, по-своему
переписывала текст, из которого как бы сами собой возникали рисунки, она
подбирала для себя и обрабатывала полюбившиеся ей русские народные сказки. Таня
решила пойти еще дальше. Она придумала маленьких домовят и лешиков. А Бабе-Яге
А Бабе-Яге
в добавление к избушке на курьих ножках, повергавшей хозяйку и ее случайных
гостей в мрачноватое расположение духа, выделила еще и нарядный пряничный Дом
для хорошего настроения, – в нем и сама Яга делалась радушной хозяйкой, и
гостей не только не ели, а, наоборот, изо всех сил закармливали и баловали. И
уж если в банях жили домовые-банники, в сараях-сараяшники, а в конюшнях –
конюшенники, то почему бы в собачьей конуре не жить конурнику Нефеду Жучкину,
собачьему домовому?
Быть настоящей женщиной – для Тани это
значило еще и быть продолжательницей тех, кто по-своему, по-женски, творили
народную (очень щедро!) и мировую, так сказать, авторскую культуру (пока, с ее
точки зрения, до обидного мало). Она не любила жаловаться. Не любила говорить о
своих бедах и болезнях. На вопрос: «Как поживаете?» неизменно отвечала: «Замечательно!»
У некоторых это вызывало зависть. Таня не выносила формализма, скуки. «А зачем
я здесь?» – вдруг спохватывалась она на каком-нибудь собрании или методическом
совещании в Педагогическом институте или во Дворце пионеров и старалась
незаметно пройти к выходу. Но не заметить эту большую сияющую женщину было
Но не заметить эту большую сияющую женщину было
невозможно. Она любила смеяться. За день происходило и говорилось много такого,
что ее радовало и забавляло. И соседка, жившая за стеной, пожаловалась в
парторганизацию на то, какую богемную, разгульную жизнь ведет эта художница: с
чего бы ей, на трезвую голову, так смеяться? Но Таня улыбалась даже в свои
последние дни на земле. «Чему улыбаешься?» – спросил я. «Не просто улыбаюсь,– с трудом шевеля губами, прошептала Таня. – Смеюсь. Замыслы… Такие потешные!»
«Таньнаташа» – называли ее и
сестру-близнеца в детстве. Так и говорили: «Таньнаташа выйдет?» Сколько себя
помнили, обе девочки рисовали. Ну а сказки сочиняют все дети. Каждая их игра,
как утверждает Чуковский, есть материализация сказки. Потом это проходит. Но у
Тани не прошло. В одном из рассказов о детстве она пишет, как сестры усаживали
свою няню Матрешеньку читать им по складам любимые сказки, но прежде требовали,
чтоб она подтвердила: лягушка и на сей раз станет царевной! В другом рассказе
она вспоминает, как во дворе на Большой Почтовой, своей малой родине в Москве,
она сочиняла для подружек сказку про принцессу, которая любила и берегла всех
маленьких: жуков, гусениц, бабочек, а потом они ее спасли, и как принцесса
обманула врагов, ворвавшихся в ее замок замерла неподвижно среди статуй, и ее
приняли за статую.
Рисовали сестры и в эвакуации, в
Ярославле. В изостудии при Дворце пионеров. Наташин рисунок в войну даже в «Пионерке»
напечатали. А в Москве они вместе пришли к Татьяне Александровне Луговской. Она
часто вспоминала, как увидела за дверью своей изостудии двух одинаковых
девочек. Наташа поступила в Архитектурный, Таня – в Институт кинематографии. На
одном из экзаменов она провалилась, но год не пропал даром, – она занималась в
изостудии у Тышлера, который любил и чувствовал сказку, особенно театральную. А
еще Таня любила рассказывать, как однажды их с Наташей курсы случайно оказались
в один и тот же день на практике у Останкинского дворца. Незнакомый
преподаватель подошел к Тане и сказал: «Так-так. Решили утопить архитектуру в
пейзаже? Ну что ж, продолжайте». А к Наташе подошел Танин профессор Юрий
Пименов: «Не слишком ли подчеркнута архитектура? Ладно, продолжайте!» Влияние
фантазера Тышлера причудливо сочеталось в Таниных работах с влиянием певца
Москвы и москвичей Пименова.
Я знал Таню 25 лет. И только через 10 лет
осмелился признаться ей и самому себе, что люблю ее. 15 лет мы прожили вместе.
Помню, в первые дни после нашей женитьбы мы шли под серым моросящим небом, и
вдруг она сказала: «Посмотри, как
красиво!» И верно. Я часто проходил по этой улице в гораздо лучшую погоду,
но такой красоты никогда не видел. «А все
держит вот эта женщина в красном плаще, – пояснила Таня. – Смотри, смотри, пока
она не свернула за угол». И я увидел крохотную далекую фигурку, на которой
в это мгновение и впрямь держалась красота улицы. Не этому ли она училась у
Пименова? А однажды на подмосковной Десне мы любовались отражением в реке
освещенного дома, и Таня вдруг вспомнила, как у Гоголя русалки выходят со дна
сквозь отраженные окна… И я словно бы увидел их.
В 1975 году в Тарусе Таня показала мне
школу, где размещались студенты ВГИКа, проходившие практику. «Здесь ко мне
перестали серьезно относиться, нахмурилась она. – Как-то я сказала: «Смотрите! Как красиво! Розовый поросенок на
зеленой траве!» С тех пор про меня и мое искусство так и говорили: «Ну,
Таня… Это же розовый поросенок на зеленой траве!»
Между тем этот розовый поросенок на
зеленой траве мог «держать» всю прелесть летнего пейзажа, как «держала» ее в
дождливой Москве женщина в красной накидке. Розовый поросенок на зеленой траве
Розовый поросенок на зеленой траве
– это же и вправду красиво! И сколько в этой картине доброты и нежности. Но
времена были такие, что нежность и доброта звучали либо как вызов, либо как
предмет для насмешки. В 1977 году в Челюскинской, в Доме творчества художников,
где Таня (единственный раз в жизни!) провела за работой в литографической и
офортной мастерских целый «заезд», два месяца, была отчетная выставка. На
Танином стенде с литографий и офортов смотрели детские и юношеские лица, сидел
на пне домовенок Кузька, занесенный из привычного дома в неведомый лесной мир,
и тот же Кузька спал в кроватке под лоскутным одеялом, в головах кровати была
надпись «Спокойной ночи!», а в ногах «Доброе утро!» Доброта тут же была
замечена комиссией и отмечена ею. «Хочется пожелать Татьяне Ивановне, –
произнес председатель – большей беспощадности к ее героям!» Да-да именно так и
было сказано! Беспощадности к кому. К детям? К молодежи? Лев Токмаков не
вытерпел, произнес целую речь в защиту доброты. Мне тоже в те же годы
приходилось слышать от официальных ораторов, например, такое: «Хочется видеть
рассерженного Берестова».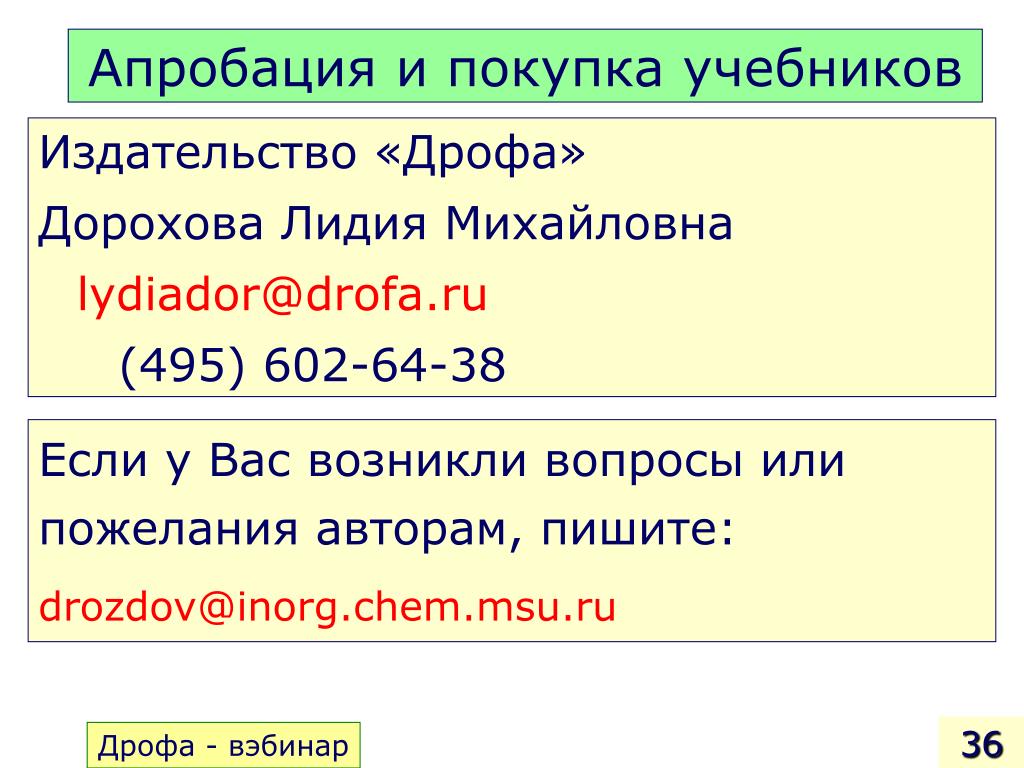 Речь шла о стихах для малышей. С какой стати я должен
Речь шла о стихах для малышей. С какой стати я должен
на них сердиться? Мало ли они видят рассерженных родителей, воспитателей,
прохожих, соседей? Владимир Амлинский ответил докладчику: «Видел рассерженного Берестова.
Ничего интересного».
Здесь, в Тарусе и в Поленове, Таня стала,
так сказать, мастером зеленого цвета. Ее однокурсник Михаил Скобелев сказал,
что это пристрастие ей повредило, зеленый цвет хуже всего воспроизводится в
репродукциях. Но зеленый цвет с его оттенками занимал ее все больше и больше.
Как-то Таня с этюдником переправилась из Тарусы на другой берег Оки и
направилась в Поленово. Музей был закрыт, выходной. Расположилась около него с
этюдником. Подошел белобородый человек в белой рубахе навыпуск, директор музея
Дмитрий Васильевич Поленов, сын художника. Таня и ее этюд пришлись по душе
этому строгому, сдержанному человеку. И Дмитрий Васильевич провел Таню по тихим
комнатам отдыхающего музея. Таню заинтересовало, почему Поленов и его ученики
так редко писали летние дневные пейзажи. Оказалось, и старые мастера не очень
Оказалось, и старые мастера не очень
любили писать июльскую зелень. И тогда Таня стала писать именно летние пейзажи.
На одних был контраст зелени берез и елок. На других зеленый сумрак царил среди
ржавых хвойных стволов, а на переднем плане возникали то молоденькое деревцо,
то цветок.
Впрочем, было время, когда Таня вообще
отошла от пейзажной живописи. «А зачем
это? – говорила она. – Ну, станет
одним пейзажем больше. Это же простое умножение материального мира, никакой
духовности, никакой сказки». Но в 1973 году, когда мы на целый год
переехали в Поленово, Таня, посмотрев на любимые пейзажи в музее и на
изуродованные взрывами добывателей песка или камня берега Оки, резко переменила
мнение: «Я поняла, для чего нужны
пейзажи! Когда-нибудь по пейзажам великих художников будут восстанавливать
природу». А еще в пейзажах со временем начал слышаться голос красоты, такой
хрупкой перед нынешней техникой, тихий голос, обращенный к человеку: «Пощади!»
«А зачем это?» Любимый Танин вопрос до сих
пор нет-нет да и придет ко мне словно из глубины души. Как-то я прочел Тане
Как-то я прочел Тане
стихотворение о раннем детстве. «А зачем ты это написал?» сдавленным голосом
спросила она. Выражение ее лица было прямо-таки трагическим. «Видишь ли, Танечка,
я хотел сказать то-то, то-то и то-то». Таня сразу повеселела: «Ты бы это и
сказал!» Так я расстался с подтекстом.
Но и мои стихи, как она сказала, еще
задолго до нашей женитьбы повлияли на нее. Она стала писать не пейзажи, а то,
что она называла «микропейзажами». Например, на белом или желтоватом листе
бумаги – изумрудно-зеленое зубчатое пятно, а в нем, как в кристалле, тоненькие
лиловые колокольчики. Кусок зеленого луга, перенесенный на бумагу. Своих
учеников Таня убеждала писать так, чтобы еще издали, на стене, работа
привлекала зрителя просто прелестью яркого пятна, пусть на нем пока ничего не
разберешь. («Этому можно учиться у
абстракционистов», – произносила она крамольные для того времени слова.) А
подойдешь и увидишь в красивом черном пятне цветущую таволгу, в изумрудном
колокольчики. «Я думала о твоих стихах,
когда писала микропейзажи, – говорила Таня. – От них должно быть такое же впечатление, как от стихов». А еще в них,
– От них должно быть такое же впечатление, как от стихов». А еще в них,
по ее мнению, должен был слышаться голос: «Не повреди! Пощади!»
В Поленове и Тарусе она решительно перешла
от микропейзажей к тому, что в разговоре с Иваном Киуру и Лолой Звонаревой
назвала портретами цветов (так их окрестил Иван Киуру). Она сочетала принцип
восточной, вернее дальневосточной живописи, японской, китайской и корейской,
который так близок именно авторам «танка» и «хокку», с русской натурной
живописью. Первым таким портретом цветка был портрет поленовской фиалки. А
потом в тарусских перелесках она писала желтые первоцветы, которые мы в детстве
называли баранчиками. Она их называла «первоцветы Дюрера», ибо Дюрер первым
написал «портрет» этого цветка. День был холодный, у Тани стыли руки, я
разводил костерчики на тропинках, чтобы она могла подержать пальцы над огнем.
Цветы она никогда не рвала, букеты писать не любила. Неохотно взялась даже за
букет васильков, которые я в Поленове принес ей в середине ноября. Но за ночь
Но за ночь
выпал снег, и Таня написала этот летний букетик на фоне свежего снега.
Самые лучшие цветы и даже грибы, которые
никто не будет брать, чтобы все их увидели, по ее мнению, должны расти у
тропинок. Прекрасная вещь – тропинка: сколько народу прошло, а ничего не
затоптано, кроме этой узенькой тропки. У нее и комиксы для детей были про то,
как надо беречь пригородные цветы, а в ее фантастической пьесе «Воздушные
шарики» инопланетянка берет с собой на планету, где много всякой живности (она
так и сыплется с веток), очень широкую шляпу, только бы не наступить, не
раздавить, не повредить.
У ее цветов есть индивидуальность, есть
свои характеры – это именно портреты. Наверное, Таня давала каждому из этих
цветов не родовое или видовое, а личное имя, подобно тому, как герой ее
повествования маленький Лешик, сын старого Лешего, знает по имени каждый куст,
каждую сосну и березу в огромном лесу. «А как же? Иначе они откликаться не
будут!» На посмертных выставках в Доме детской книги в Москве и в Ленинграде
(они назывались «Портрет цветка, портрет ребенка») дети рассказывали, какой
характер у каждого из нарисованных Таней цветов, и сочиняли про них сказки.
С ней никогда не было скучно. Поездка по
делу в метро и автобусах с несколькими пересадками, а Таня довольна: «Давай отнесемся к этой поездке как к
путешествию. Вот сейчас, пока едем, будем смотреть только на людей и на то, что
и как эти люди держат». Это было одно из самых захватывающих путешествий в
моей жизни! А потом мы глядели только на шапки. Бог мой, чего только не
нахлобучивают на головы! «А теперь давай смотреть только на губы и глаза», –
предложил я. «Что ты! – ответила
Таня. – Ты сразу устанешь. В них такое огромное
содержание!»
А в Ленинграде она в одну из поездок
больше всего смотрела на крылатые существа, изображенные на домах, в рельефах,
статуях, на всех этих ник, амуров, ангелов, муз, гениев и меркуриев. Я был
занят своими изысканиями в Пушкинском Доме, а Таня таким вот образом развлекала
себя. Вывод был такой (я записал ее слова): «Если б люди летали, как изображенные ими ангелы, гении, победы, у них
был бы совсем иной характер». Уверен, она могла бы точно изобразить этот
Уверен, она могла бы точно изобразить этот
характер.
Вот еще ленинградская запись: «Летний сад.
Разглядываем статуи. Рядом с ними таблички с краткими пояснениями. У статуи «Юность»:
красавица с тамбурином и сидящей у правой ноги мартышкой. Таня в Ленинграде все
время вспоминает юность (она была тут ровно 30 лет назад): «Ну вот, видно, что юность прекрасна, как эта
девушка, и неразумна, как эта мартышка»… А потом сидели среди густой
зелени, в гармонии, в покое перед Вертумном и его женой Помоной и дремали. Тане
понравился старик «Закат» с текучими чертами печального лица. Мальчик мимоходом
воскликнул: «Какое лицо!» Таня заметила, что у здешних статуй другой тип
красоты, ножки, не знавшие, что такое спорт… Пруд весь в птичьих перьях. Пара
лебедей стоит на травке на противоположных берегах, видно, это они тут
поссорились и подрались. В пруду утки, над ними чайки, у самой воды голуби,
воробьи. На Цепном мосту встречаем юного негра-студента, и вдруг все становится
старинным, словно мы переселились в XVIII век.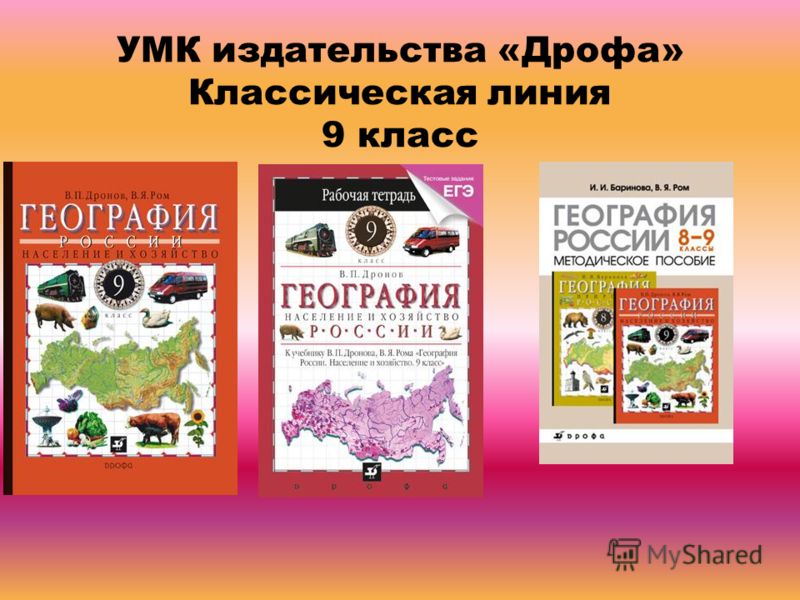 «Арап!» – шепчет Таня…»
«Арап!» – шепчет Таня…»
Через шесть с лишним лет после того, как
ее не стало, хожу по Ленинграду и вдруг начинаю ее игру, всюду замечаю крылатые
фигуры. Какой удивительный мир! Подхожу к Адмиралтейству. На аллее играют
малыши. Девочка что-то чертит. Другие раскраснелись от игры. «Вот здесь, –
говорит девочка, – тропинка. По обе стороны кикиморы. Здесь Кузя – а Лешик уже
вон там. Ну, кикиморы, визжите! А теперь чур я Кузя. А ты – Баба-Яга! А ты –
избушка на курьих ножках! Я играю на дудочке. Изба, пляши!» Они играют в
Кузьку, придуманного Таней. Кузька убегает из дома Бабы-Яги, они с Лешиком
бегут по тропинке через болото. А кикиморы со скуки заставляют беглецов играть
с ними и крадут волшебный сундук, сундук со сказками, положишь рисунок –
расскажет сказку. Так и для Тани каждое изображение становилось сказкой. И вот
ее мысль, ее душа, ее фантазия вошли в детскую жизнь. Знала бы она об этом!
Когда мы поселились на первом этаже в доме
на окраине Москвы, Таня сразу завела по блокнотику: на кухне, у меня в кабинете
и у себя в мастерской. Они лежали на подоконниках. На кухне – блокнотик,
который назывался «Утренние прохожие». Из моего окна она рисовала «вечерних
прохожих», никуда не спешащих. А ее окно глядело на детскую площадку: она
рисовала играющих детей и записывала их разговоры. Их тысячи – этих мгновенно
запечатлевшихся на бумаге живых, узнаваемых фигур и лиц.
Жадность ее к изображению людей и цветов
была так велика, что однажды на строительном пустыре, где ей понравились сразу
малыш с собачкой и какой-то с виду непритязательный, но крепкий и веселый
цветок («Какой молодец!» – сказала
про него Таня), она принялась что-то искать, раздвигая траву палочкой, а потом
и вовсе ползая по ней. «Очень хочется
рисовать, – смущенно объяснила она. – А
карандаш забыла. Вот и ищу, вдруг, на мою удачу, кто-нибудь потерял…»
Если она была хмурой, значит, ей не
пишется. Если рассеянна, то думает, например, о бессмертии: «Как было бы
замечательно жить хотя бы лет триста!» В ее повести «Таинственная тетрадь» («Пишу фантастику для подростков!» –
радовалась она) есть глава о бессмертии. Оказывается, оно было бы нелегким
испытанием. Но ведь иначе, посадив, например, секвойю, ты не сможешь увидеть,
какой она станет в своей зрелости, через тысячу лет, а путешествия на другие
планеты без бессмертия почти невозможны, как тут слетаешь в другую галактику,
вернешься и расскажешь родным обо всем? И главное, пока нет бессмертия, то и
сказку настоящую, равную народной, не напишешь, ведь она обкатывалась у народа
веками, значит веками должен располагать и сказочник.
«О чем ты сейчас задумалась?» – спросишь
ее во время прогулки. «Видишь ли, –
отвечает она, – у нас, в мире трех
измерений, всегда не хватает времени. Правда же? А в мире четвертого измерения
времени сколько угодно. Поедем в Калугу на Циолковские чтения? Надоело, в какое
учреждение ни придешь, смотреть на дураков. А там чувствуешь себя словно в
каком-то прекрасном будущем: кругом одни только умные лица! Почему люди не
запретят войну? Неужели мы, человечество, еще такие дети или дураки? А, может,
это глупость всех веков мешает миру: сколько ее накопилось в делах, умах и
привычках?»
Она была поразительно скромна и не
позволяла говорить о себе, о своих работах. «Пусть Валюша или Андрюша Чернов прочтут свои стихи», –
останавливала она собеседника. Кроме того она была настоящим педагогом, а
настоящий педагог верит, что дети будут лучше, чем он сам. Если же он при этом
художник, то, конечно же, овладев навыками и тайнами учителя, они станут
рисовать в тысячу раз лучше, чем учитель. (Свои работы так уступали
воображаемым шедеврам учеников.)
Когда она рисовала цветы (а это очень
тихое занятие), птицы и звери в лесу переставали бояться. В такие минуты лес
жил своей потаенной жизнью, и мы видели и чувствовали ее. Когда она рисовала
детей, то рассказывала им сказки. Те даже и не замечали, что позируют. Лица
детей на ее портретах чаще всего серьезные, иной раз печальные и всегда очень
значительные. Таня считала, что психологический портрет ребенка любого
возраста, написанный так, как великие мастера писали взрослых, может стать
важным открытием нового искусства. Корней Чуковский говорил, что маленький
ребенок – только черновик, набросок человека, каким он будет, став взрослым. В
зависимости от воспитания и обстоятельств жизни он может стать «и Циолковским,
и самым низкопробным делягой». Сказками Таня пробуждала в своих «моделях» их
затаенную духовную жизнь и, рисуя их лица, пыталась заглянуть в будущее.
Она любила читать детям или собственные
сказки, или рассказы о своем детстве, или свою «фантастику для подростков», как
она ее называла, где, скажем, в сельскохозяйственной школе будущего один
мальчик выводит пушистую змею, чтобы та, линяя, сбрасывала шкурку, из которой
выйдет великолепный меховой воротник. А другой выводит роботов-червяков,
которые по воле человека быстро и незаметно готовят почву к посеву без всяких
плугов. При этом она раздавала детям бумагу, кисти и краску и просила их
рисовать. А чтобы сказки были поинтереснее и посовременнее, она ездила на
научные конференции – слушать физиков, биологов, исследователей космоса.
Как-то мы гуляли по берегу пруда. «Гляди, как отражается в воде эта чудесная
береза. Знаешь, отражение – это искусство, создаваемое самой природой. А теперь
найди ту же березу на берегу. И не найдешь! Видишь, в жизни скромна, а в
отражении так заметна». Такой и была она, Татьяна Ивановна Александрова.
Была и осталась.
2. Ни в детстве, ни в юности, ни в
тридцать лет, а именно столько ей было, когда мы познакомились, Таня думать не
думала, что когда-нибудь станет писательницей. Первая ее книга «Кузька в новой квартире», написанная в
Поленове, в той самой баньке, где когда-то Сергей Прокофьев сочинил балет «Ромео
и Джульетта», вышла в 1975 году, когда Тане было 46 лет. За два года до того
вышла повесть-сказка «Катя в Игрушечном
городе», которую по настоятельному требованию Тани мы написали вместе.
Впечатление было такое, будто Таня не
только не стремилась к писательству, но и всеми силами старалась, чтобы вместо
нее писали другие. Женщины, как известно вдохновляют поэтов. Таня жаждала
вдохновить их своими рисунками. Первым, кого она вдохновила, был Борис Заходер.
Еще в 1958 году я увидел на его столе макет книжки-ширмы «Как искали Алешу».
Меня поразили изображения детей на рисунках, это были не дети вообще, а
личности, встретишь таких на лужайке или у песочницы во дворе и сразу отличишь
от всех остальных. Сюжет был такой. Сестренки в лесу заигрались и забыли про
малыша, которого притащили с собой, а тот уполз и потерялся. К счастью, с
детьми был пес Дружок, ему дали понюхать ботинок, потерянный малышом, и Алеша,
наконец, нашелся. «А правда, ребята, – Дружок – молодец?» так, будто с Таниной
интонацией, заканчивалось это милое стихотворение.
Следующим автором, кого она собралась
вдохновить, был я. В начале шестидесятых годов она принесла мне серию рисунков
про длинненьких и кругленьких. Длинненькие строили, пекли, рисовали и
изобретали только длинное или прямоугольное, а кругленькие только круглое. Тут
легко угадывались и приключения и философия, – сюжет для целой стихотворной
книги. Но я был занят «Мечом в золотых ножнах», повестью о раскопках, и
познакомил Таню с Романом Сефом. Таня передала ему рисунки. Сеф написал стихи.
Сохранились черновики Таниных писем к нему, где художница уточняла для поэта
свой замысел. Стихи не напечатали, увидели в них, наверное, какую-то «аллюзию»,
стали искать, кого поэт подразумевает под длинненькими, кого под кругленькими,
не нас ли с американцами, и не намекает ли он на возможность конвергенции между
этими двумя столь не похожими мирами? Через много лет, когда мы с Таней уже
были женаты, она услышала эти стихи по радио, куда Сеф наконец сумел их
пристроить. Таня всплеснула руками: «А
как же рисунки? А как же я?» Но стихи так и не вышли отдельной книжкой, а
только после смерти Тани попали в «Избранное» Романа Сефа. Рисунки сохранились,
и, может, наконец-то пришла пора выпустить давно готовую книжку про длинненьких
и кругленьких.
В те времена Таня еще и не пыталась сама
писать свои сказки. Поэзия, переполнявшая ее работы, так и просилась в стихи.
Проза пришла потом. Стихи же эти непременно должны были быть веселыми, во
всяком случае забавными. Как-то Таня вошла ко мне в комнату:
–
Ой, прости, ты пишешь?
– Да, ответил я. – Пишу стихи о любви, и
не к кому-нибудь, а к тебе.
Но мировая любовная лирика лишилась
будущего шедевра.
–
Если ты и вправду меня любишь, — Таня протянула мне лист с рисунком, – то напиши, пожалуйста, про эту козу.
Вот оно, первое мое стихотворение,
продиктованное любовью к Тане в первые месяцы нашей женитьбы:
В
дверь вошло животное
До
того голодное,
Съело
веник и метлу,
Съело
коврик на полу,
Занавеску
на окне
И
картину на стене,
Со
стола слизнуло справку
И
опять пошло на травку.
– А
какую справку? – обрадовалась Таня. Она ненавидела все, связанное с
бюрократизмом. И тогда любовь к этой женщине дала мне силы для следующего
сочинения:
«Дана
Козявке по заявке справка
В
том, что она действительно Козявка
И за
Козла не может отвечать».
Число
и месяц. Подпись и печать.
Однажды в калужской электричке Таня
принялась успокаивать плачущую больную девочку. К счастью, у нее были с собой
бумага и цветные фломастеры.
–
Подпиши, пожалуйста, стихами, Таня протянула мне рисунок.
Я отправился в тамбур писать стихи,
которые должны были, по Таниному замыслу, сотворить чудо исцелить болящую и
утешить страждущую. И надо же, так оно и произошло! Вот эти магические строки:
Отворяй,
Лиса, калитку,
Получай,
Лиса, открытку!
На
открытке есть картинка –
Хвост
морковки и дубинка.
А
написано в открытке:
«Собирай
свои пожитки
И
убирайся вон из нашего леса!
С
приветом. Заяц».
И много таких стихотворений,
продиктованных любовью к Тане, я в те годы написал. Но бывали случаи, когда она
сама писала стихи, во всяком случае, начинала их писать:
Маленькие
заиньки
Захотели
баиньки.
Мне осталось лишь добавить:
Захотели
баиньки,
Потому
что маленьки.
Другой стишок тоже начинался словом «маленький»:
Маленький
бычок,
Желтенький
бочок,
Ножками
ступает
Головой
мотает.
Я добавил:
Где
же стадо? Му-у!
Скучно
одному.
Стихотворение тут же было мне подарено.
А в последний год ее жизни, когда от
постоянной тревоги за Таню мне не хватало веселости для детских стихов, Таня
выручила меня и написала первую потешку из тех, какие заказали мне
мультипликаторы. Про солнечного Зайчика:
Зайчик
пляшет тут и там,
Зайчик
ходит по пятам,
А я
заиньку поймаю,
В
колыбельке покачаю.
Тон был задан и я весело принялся за
остальные потешки.
В
гости катит Котофей,
Погоняет
лошадей.
Он
везет с собой котят,–
Пусть
их тоже угостят.
–
То, что надо! – обрадовалась Таня. – Для
взрослых сатира, а для детей это трогательный добряк.
Когда в семидесятых годах у нас дома стали
собираться молодые поэты, Таня после их ухода, убирая посуду, прекрасно
пародировала самые замысловатые из услышанных нами стихов.
– Их
можно писать целыми километрами! — смеялась Таня и создавала ослепительный
верлибр сплошь из небывалых, изощренных метафор и афоризмов. Жаль, не записал
за нею ни одной такой пародии. Но как-то к нам в Беляево-Богородское пришел
Григорий Кружков с переводами ирландских и английских лимериков, в каждом
обыгрывались географические названия и развивался потешный, абсурдный сюжет. Мы
смеялись, а после ухода Кружкова долго не могли уснуть. Я сказал Тане, что
лимерик – сложнейшая форма, Гриша Кружков, овладев ею, доказал, что он –
настоящий мастер.
– Сложная форма? – и Таня повторила свое
любимое: – Лимерики можно писать целыми километрами!
И с величайшей легкостью, почти без моей
помощи, принялась сочинять один лимерик за другим:
Говорят,
мистер Смит из Мельбурна
Сочинял
эпиграммы недурно
Сочинял,
сочинял,
Всех
друзей растерял
И
уехал совсем из Мельбурна.
Нечто подобное однажды случилось со мной.
А Таня продолжала:
Две
девицы из города Ницца
Захотели
удрать за границу.
Но
знакомый капрал
Им
сурово сказал:
«Ницца
– это и есть заграница».
Дальше пошло уже совсем несусветное. Вот
еще один лимерик, который я запомнил:
Дон
Базилио с острова Мальта
Распевал
серенады контральто,
В
женском платье ходил,
Двух
младенцев родил.
Странный
деятель с острова Мальта.
Потом я попросил Таню включить в лимерики
самого Гришу, что и было сделано:
Как-то
Гриша приехал в Беляево
И
стихов попросили хозяева.
Но
без новых стишков
Появился
Кружков
И
смущенно покинул Беляево.
Больше ни одного лимерика я в своей жизни
не сочинил. Это ведь и вправду сложная форма.
Первые десять лет нашего знакомства мы с
Таней виделись нечасто, и я не знаю, когда и как она вдруг, чуть ли не забросив
свое изобразительное искусство, принялась писать прозу. Она уже показала свою
повесть «Катя» в Детгизе и вела переписку с редакцией книг для младшего
школьного возраста, ее заметил прозаик Михаил Коршунов, и Таня даже чуть было
не попала в семинар для начинающих детских авторов. Всего этого я не знал,
когда Таня со своими произведениями появилась у меня. «Ну вот, подумал я,–
такая прекрасная художница, такая милая женщина не избежала этой отравы». И
приготовился слушать, что написано на листочках, которые она извлекла из черной
папки со шнурочками, предназначавшейся для рисунков. Повесть мне не
понравилась. В ней шла речь о том, как московские ребята из Черемушек
организовали этакое тайное общество юных интеллектуалов, собиравшееся у
костров, где сжигали мусор, в еще не засыпанном овраге; они обсуждали, каких «одноклеточных»
ни в коем случае нельзя брать с собой в космос, чтобы в космических поселениях
жили только достойные, бескорыстные, творческие люди. В грубоватых мальчишеских
диалогах было полным-полно самых новейших научных данных и гипотез, почерпнутых
даже не из популярных журналов и брошюр, которые Таня тогда с жадностью читала
и собирала, а прямо из первоисточников – с научных заседаний и диспутов, из
лабораторий и конструкторских бюро, куда Таню водили ее тогдашние
друзья-физики.
– Но ведь печатают так долго, – сказал я,
а наука движется так быстро все это мигом устареет, а писать нужно, так
сказать, на века.
Тогда Таня прочла мне сказку про дочку
Бабы-Яги. Яга каким-то образом помолодела влюбилась в современного, идеального
с точки зрения Тани, молодого человека, разумеется, ученого. У них родилась
дочь, происходит борьба высокого и дьявольского начал…
– Сказки лучше бы писать для детей, –
вздохнул я.
И тогда огорченная Таня вынула из папки
большую красную тетрадь и, найдя нужную страницу, прочла: «Маленький домовенок с размаху налетел на огромное дерево и кувырк вверх
лаптями».
Я затаил дыхание. Происходило чудо. У
одного, кажется, Пушкина можно видеть вместе героев волшебных сказок и
персонажей так называемых быличек, то есть рассказов о встречах с неведомой или
нечистой силой, лишь у него на лукоморье и леший бродит, и русалка на ветвях
сидит, и в том же, а не в разных мирах, скажем, королевич пленяет грозного царя.
Нет в русских сказках ни эльфов, ни гномов, одушевляющих лес и горы, навещающих
и людское жилье. И вот теперь эта художница собралась населить для наших детей
и для будущих поколений многоэтажные городские дома маленькими домовятами, о
каких еще никто никогда не писал и не рассказывал, а леса, даже истоптанные,
дачные, – зелененькими лешиками, которые вместе со стариками лесовиками
обихаживают леса и рощи, заботясь о каждом кустике, о каждой козявке. А Таня
продолжала чтение:
«–Ты
чего спрятался? Ты кто?
–
Домовой, – ответил Кузька.
–
Домовых не бывает! Про них только сказки рассказывают, — сказал лесной житель,
весь зеленый от макушки до пят.
– А
ты кто? Здешняя неведомая зверушка?»
Так и есть, пушкинское лукоморье: «там на
неведомых дорожках следы невиданных зверей». Дальше!
« –
А вот и нет! Не угадал! Еще угадывай!
Кузька ответил, что всю жизнь будет думать и
не угадает
–
Всю-всю жизнь? – восхитился незнакомец.– И не угадаешь? Лесовик я, леший, вот
кто. И зовут меня Лешик. Мне уже пять веков. А моему деду Диадоху сто веков».
Я слушал и думал, как это просто, как
естественно, что (а ведь впервые в истории) домовенок встречается с лешонком и
что годы у них считают не летами, а веками. А Кузька, совсем как деревенский
ребенок, оказывается до смерти напуган людскими быличками о встречах с лешими.
«–
Врешеньки-врешь! У леших клыки до самого носа торчат, язык во рту не умещается,
наружу высунут, и живот на сторону мешком висит. Не похож ты на них. Нечего зря
на себя наговаривать.
– Ты
перепутал! Это про домовых рассказывают, что у них язык наружу и живот мешком.
Кузька
даже онемел от такого нахальства…»
Так, наверное, и у нас с американцами,
пояснила Таня. Правда же? Я об этом думала, когда писала.
Дальше она читать отказалась и правильно
сделала. Там, как я потом узнал, среди лешиков и домовят вдруг появлялся
какой-то Светозар, какие-то струги, шла какая-то оперная любовь из
древнерусской жизни. Хорошо, что я тогда не услышал этого.
– Ты гений! – сказал я. – Ты способна
создать великое произведение! Брось все и пиши только это.
И тут, как некое откровение, видение,
вдруг возникла предо мной мировая слава этой сказки, если написать ее как
следует, из будущего послышался некий радостный гул. И вот теперь, когда чудо и
впрямь происходит, я думаю, не навлек ли я на Таню беду своим «Ты – гений!»?
Ведь гениям, увы, почему-то достаются за их великие произведения всяческие
мытарства, гонения, непризнание, а понимают их чаще всего после смерти.
Я и представить себе не мог, как начнется
мировая слава «Кузьки»… По дорожкам
Хованского кладбища с белыми хризантемами в руках идут следом за мной госпожа
Курито из японского агентства авторских прав и госпожа Саяка Мацуя,
переводчица, недавно написавшая мне: «Я благодарна судьбе за то, что она дала
мне возможность переводить такое замечательное произведение». Еще в Японии обе
они наметили именно этот день и час, чтобы поклониться могиле автора «Кузьки».
Таня не торопилась писать «Кузьку». И
когда мы через несколько лет после первого чтения поженились, она не показала
мне ни одной новой страницы. Я не придал значения тому, что великое множество
сборников сказок всех народов мира приобретены ею именно за эти несколько лет,
и совершенно бездумно провожал ее в Историческую библиотеку, мечтал лишь о том,
что и сегодня, поднимаясь по лестнице в читальный зал, она обернется, просияет
и помашет рукой. Из библиотеки она возвращалась с неожиданными вопросами.
Например:
– Хочешь
услышать, как говорили древние русичи? Вот слушай. «Чем дальше в лес, тем
больше древес». А наше «чем дальше в лес, тем больше дров» – это ведь только
пародия, шутка. Или вот: «В браде сребро, а бес в ребро». Ты же сам говорил,
что все древние новгородцы 6ыли грамотны. А потом, когда эта грамотная
демократия кончилась, рифмы пропали, осталось «седина в бороду, а бес в ребро».
То и другое Таня не вычитала, а придумала
сама. Потом я услышал, что и Маршак додумался до «в браде сребро…» Значит, Таня
была права. Таня готовилась к работе над «Кузькой», а по условиям задачи,
которую она перед собой поставила, требовалось не просто отыскивать в книгах
забытые пословицы и поговорки, но и создавать новые, им не уступающие, а
кое-что и восстанавливать. Таня превращалась в фольклористку.
Она и сама не подозревала, что, работая в
детской художественной студии Дворца пионеров и бегая отдыхать к малышам в
игротеку, давно уже записывает фольклор, правда, так сказать, разовый, не
переходящий из уст в уста. Это были сказки, которые непременно возникали, когда
малыши в студии рисовали, а в игротеке возились с игрушками. Вот
стенографическая запись за рисующей маленькой девочкой:
«Это
была такая собачья страна – там жили одни собаки и они даже не знали такого
слова – че-ло-век! Вот одна такая пушистая-пушистая, красивая! Все брали такие
дорогие билеты и шли с фотоаппаратами. У нее были очень пушистые и хорошие уши…
А вот они шли выступать – пантомиму. И девочка была их – собачья дочка –
красавица. Похожа на маму… Такое желтое-желтое красивое лицо. Уши так лежали,
как волосы. Она этим гордилась. Там-там-пи-ри-пам-пам! Она была такая
музыкальная. И все говорили – ах, ах, какая музыкальная! Голубые туфельки у нее
были! Красивое платье и заткнуты две такие голубые розочки. Лапки были тонкие,
и все говорили – ах, какая тоненькая. И она была желтого красивого цвета и ей
это очень шло. Мужчины собаки ходили так: белые шаровары до колен. Чаще всего
белые! Там-пам-пам-пам!» Не эта ли девочка, когда рисовали натюрморт с
дымковской игрушкой, изобразила на листе живую барыню с совсем не игрушечной
желтой собакой? Так Таня проникала в живой мир детской игры.
И в одно прекрасное утро она положила
передо мной лист с несколькими прелестными рисунками:
– Подпиши!
На первом рисунке (это была обложка
будущей книжки-малышки) – крохотная куколка в красном, как земляничка, платьице
с зелеными цветочками и в большом зеленом платке с красными цветочками. Далее
большой бело-голубой мишка, спутник детства Галки, Таниной, а теперь и моей
дочери, лежа на животе, созерцает эту милую Катю, как объяснила Таня, игрушку
для игрушек. Затем дымковская лошадка с веселой мартышкой и круглолицым
ванькой-встанькой в кумачовой рубахе, они явно радуются новенькой. Далее
сложенная из мозаики конюшня, под аркой – малышка Катя, а перед ней
взволнованная лошадка, готовая выполнить любое ее желание. Следующий разворот:
Катя верхом на лошадке мчится по Игрушечному городу. И о ужас! Игрушечный
светофор из трех разноцветных шаров на одном штыре, и глиняная, вся в узорах,
курица ведет цыплят на красный свет, а Катя вниз головой валится с внезапно
затормозившей, осев на передние ноги, лошадки. Потом больничный разворот:
забинтованная и загипсованная Катя в больничной кроватке и плачущая (целая
голубая лужа слез!) лошадка в белом халате. Затем вереница навещающих: мишка
тащит банку с вареньем, а четыре матрешки – пряники, точно соответствующие
росту каждой. И наконец, запряженная лошадка везет в расписной тележке Катю с
компанией домой.
– Сама подпиши, – ответил я. – Это же не
стихи, это сказка в прозе.
Таня подписала картинки, но чего-то в ее
рассказе не хватало.
– Вот что,– наконец сообразил я. – Твой
текст без картинок почти ничего не значит. Ты напиши так, чтоб его можно было
передать по радио.
Таня написала текст к этой и еще к
нескольким книжечкам из жизни игрушек (к веселой компании добавились Розовый
Зайчик, Пингвин с двумя пингвинятами, Машина и Подъемный кран), я понес его на
радио, а через несколько дней мы услышали про Катю и ее друзей в радиопередаче
для дошкольников.
Присматриваясь к играм малышей, Таня
увидела в их, так сказать, материальном обеспечении вопиющую несообразность:
для кукол делались и дома, и стройматериалы, и машины, и мебель, и посуда,
где-то она видела даже игрушечный рояль. Но это был мир, начисто лишенный книг.
Правда, книги есть у самих детей, хотя в то время с каждым годом их становилось
труднее и труднее достать. Но ведь книг
совсем нет в игрушечной модели мира, можно подумать, что без них вообще легко
обойтись. Срочно нужна библиотека для кукол из маленьких книжечек с простым
текстом про жизнь самих игрушек и нужны учебники для кукол, чтобы дети играли с
ними в школу. Обе эти книжки, «Сундучок
с книжками» и «Игрушечная школа»,
и вправду вышли в издательстве «Малыш». Поэтесса Екатерина Карганова
возглавлявшая редакцию игрушек, полюбила Танин замысел. Правда, не удалось
выпустить малышки отдельными кассетами. Можно было их вырезать из книги,
превратив заднюю сторону обложки одной из них – в сундучок а другой – в
портфельчик. Несколько таких книжечек вышли и в «Библиотечке «Веселых картинок»
(спасибо сказочнику Юрию Дружкову и журналистке Нине Ивановне Ивановой). Вот
только автором текста был объявлен я. Тогда старались печатать по возможности
только маститых, напиши начинающий автор не хуже, а то и лучше маститого, как и
было в нашем случае, напечатать, наверное, было бы невозможно.
Чтобы оправдать появление моего имени, я
однажды прошел пол-Москвы, придумывая композицию повести-сказки «Катя в Игрушечном городе», пока не
прошиб пот от напряжения и температура не поднялась на градус. Я безропотно
соглашался сочинять песенки и для Кати, и для Бобика (он, конечно же, не мог не
возникнуть в ходе работы), и для Зайчика, и для Мартышки, и для всех вместе. Я
норовил перепечатывать все варианты, находил шутки и каламбуры, даже немножко
командовал Таней, но книжка – все-таки Танино создание. Я убеждался в этом,
когда она правила мои жестяные фразы и в них возникало какое-то особое
очарование. Нашим консультантом был четырехлетний Федор, сын Наташи.
Мы очень обрадовались, когда, прочитав
мальчику новую главу, впервые услышали от нашего вежливого племянника нетерпеливое:
«А дальше?» Таня решила, что цель достигнута и можно писать новую главку. Но я
сказал, что ничего подобного, надо написать главу так, чтобы Федор потребовал
перечитать ее хотя бы один раз. Как мы бились над ней! Как пришлось
переделывать чуть ли не весь стиль книги! И, наконец, была написана глава про
то, как по условиям игры в дочки-матери курица рассказала сказку, и Катя стала
цыпленком, из чего, естественно, добра не вышло. Таня придумала курице
прекрасную сказку, как у двух кур перепутались дети, а третья в ответ на их
жалобу посоветовала поделить цыплят ровно на две части, они же одинаковые,
желтенькие. Но когда ее собственные детки тоже перепутались с остальными,
мудрая курица не пожелала делить цыплят на три равных части, и тогда каждая из
кур вынесла цыплятам то, что они особенно любят, и цыплята устремились к своим
тарелкам. Чего только мы не делали, чтобы поиграть куриной речью, да еще я
написал песенки не только курице, но и цыплятам, безбожно спародировав
футуристическое: «Все, что встретим на пути, может в пищу нам идти».
И тогда племянник Федор наконец-то
простонал: «Еще про курицу!» Мы читали, читали и читали, потом уехали в Москву.
Но Федор не успокоился, пришел к бабушке (мы снимали дачу рядом с Наташей): «Хочу
про курицу!» – «Феденька, они уехали». «Я знаю, куда они кладут ключ». – «Ну,
вот их комната, на столе ничего нет, наверное, забрали с собой». «Нет, они
кладут в чемодан!» И до самого нашего приезда Лидии Ивановне Александровой
пришлось читать и читать внуку про курицу.
– Ты – мой режиссер! – сказала Таня.
Но и режиссером этой книги была она сама.
Как серьезные романисты, она в отдельной тетрадочке написала для памяти
характеристику каждого из действующих лиц. Каждого из них она не преминула
нарисовать. Я прочел этот список, когда Тани уже не стало. У игрушек оказалась
совсем не игрушечная душа. Вот, к примеру, лошадка: «Мечтатель. Я так не люблю скучать и так люблю скакать. Радуется всему и
удивляется (ах – розовый поросенок на зеленой траве – ах!)» Да это же сама
Таня, это ее слова! Читаю дальше: «Скачет
в цветах во все стороны, ржет, бьет задними ногами от радости – бабочки вокруг…
Очень любит смотреть, видеть. Очень жалостливая и добрая, всегда готова
пожертвовать собой… Очень легко плачет, расстраивается, никакой веры в себя. Ее
утешают».
Утешать приходилось, насчет неверия в себя
– полная правда, но никогда не видел ее плачущей. Значит, все-таки плакала, но
одна, когда никто не видит. А потом опять на вопрос: «Как ты себя чувствуешь?»
– знакомый ответ: «В миллион раз лучше, чем вчера!» Что же касается
самопожертвования, то, узнав ее ближе, я стал больше всего бояться за нее
именно из-за ее готовности к самопожертвованию. Несколько раз пробовал убеждать
ее забыть о самопожертвовании, она так нужна нам, то есть мне, Галке, Наташе,
друзьям. «А не ругаешь ли ты меня?» – слышалось в ответ на эти увещания. И я
замолкал. Как я мог ее ругать? И все, что дальше было сказано про лошадку, все
это про Таню:
«Видит
все прекрасное – мечтает – скачет и дружит со всем прекрасным (не помнет
цветок, не обидит бабочку или жучка – довезет их до окна, леса), хочет, чтобы
все радовались этому прекрасному – и не верит в себя. Совсем не верит. «Ах,
какая я невезучая!» (Зачеркнуто. «Теплая, милая»). Очень застенчивая, все
боится всем надоесть, помешать. Чувство такта). Как-то студентка из
тропической страны попросила Таню объяснить, что такое такт. Таня объяснила,
что нужно стараться не обидеть и не смутить человека. Вспомнила анекдот.
Француз заходит в ванную, а там раздетая женщина. «Простите, мадам!» – произносит
он и удаляется. Это вежливость. Но вот в ванную заходит англичанин, женщина
вскрикнула от смущения. «Простите, сэр!» – говорит англичанин. Это и есть такт!
«Но ведь это ложь!» воскликнула студентка, смутив преподавательницу.
Рассказывая об этом, Таня очень смеялась.
Еще несколько слов про лошадку: «Чуть что
– у нее опускаются лапки. Зато утешить ее – очень просто. Объяснить еще разок,
какая она хорошая, например. Она очень умеет быть счастливой. В солнечных
лучах, на лугах среди цветов и бабочек. И – среди игрушек… Обидчивая, но и
отходчивая, и сразу радуется, что нет обиды». Точнейший автопортрет! В этот
волшебный мир она включила и меня. Зимой в Болшеве, куда мы с ней и с
восьмиклассницей Галей удрали от всяческих толков и пересудов в связи с моим
новым браком (Борис Заходер называл нас ВАТАГА, то есть Валя, Таня, Галя), она
как-то заметила, что одно из моих стихотворений вышло суховатым, жестким, хоть
и посвящено канаве, где поспевала земляника, а я, тогда совсем малыш,
благодарный земле за ее доброту ко мне (надо же, потчует меня такой сластью!),
сам делался добрей, клал в рот только розовые ягоды, а красные, самые сладкие,
нес в граненом стакане домой и угощал всех. В конце концов я махнул рукой на
стихотворение, но Тане захотелось, чтобы оно было написано. И она рисовала
акварелью прямо на тетрадном листке в клеточку микропейзаж: в волшебном
воздушном кристалле алели ягоды и зеленели резные листочки земляники. Рисунок
был положен передо мной, и стихи получились.
Когда ее не стало, нам с подругой Таниного
детства Татьяной Токаревой, работавшей художественным редактором в Детгизе, и
редакторами Галиной Быстровой, Рэмой Ефремовой, Мариной Ефимовой, знавшими и
любившими Таню, захотелось, не дожидаясь признания ее искусства в художественных
кругах, выпустить альбом с ее акварелями и эстампами разных лет. И мы
придумали! Подобрали мои стихи к ее работам, а работы к стихам, и появилась
книга «Первый листопад». Стихи и
рисунки и впрямь дополняли друг друга. И вспомнилось Танино: «Подпиши!» Это
вышло само собой. Я действительно «подписал» ее работы, ведь две трети из 60
рисунков в книге относятся к тем временам, когда мы не знали друг друга. Тут
все: и микропейзажи, и портреты цветов, и целые ковры из цветов, и березовые
рощи, как бы танцующие, водящие хороводы, и рисующая девочка, и спящий мальчик
с перевязанным пальчиком, и цикламены на окне, и грустная, ушедшая в себя няня
Матрешенька в бело-голубом платке, и портреты детей, сельских и городских, в
послевоенной нескладной одежке, и портрет маленькой Гали с игрушечным
негритенком среди цветов, которые словно бы вращаются вокруг девочки по часовой
стрелке (Таня называла цветы прекрасными мгновениями жизни!), и сценки из
детской жизни… Как много она успела создать!
3. По моей просьбе Танина сестра-близнец
Наташа (архитектор Наталья Ивановна Александрова) написала про их детство и про
те Танины работы, которые связаны с родной мне калужской землей. «Будучи совсем маленькими, – пишет Наташа
про детство сестер, – мы принимали
окружающий мир, естественно, как бы из рук наших взрослых. Отец мог все, и в те
короткие дни, когда он был дома (отец был инженером по лесосплаву, а мама –
врачом-невропатологом), он создавал прекрасные миры: вот появляются фотографии
далеких чудесных мест, откуда он сейчас вернулся, вот из-под пилки-лобзика
появляется караван верблюдов, а потом – лучи солнца и в них самолетик, и
солдатики, и домики. Попутно – немногословные – предельно выразительные
рассказы обо всем. Или ярко-желтый почтовый ящик на двери квартиры. («Нам очень
нравится ваш ящик!» – вынули однажды записку. А потом кто-то его стащил.) Отец
сам за два года построил двухэтажную дачу, отобранную в 1939-м. Мы помогали,
как могли, и научились многому.
Наша
милая Матрешенька также может все, хотя мир, который она создает, совсем
другой. У взрослых много дел, а в воскресенье дел нет, и мы помогаем печь
пироги: Матрешенька готовит большие, во весь противень пироги, или плюшки, или
просто круглые булочки для всех, а несколько смешных и маленьких – для нас,
детей. А мы успеваем наделать из теста и человечков, и собачек, и всяких
финтифлюшек, – тоже для всех. Еще она поет свои деревенские песни, особенно
если начинают петь по радио: протяжные, раздольные или, наоборот, быстрые,
изменчивые, веселые.
Рисовать,
лепить, вырезать, наверное, любимое занятие многих 6 – 9-летних. Как-то
рисовали, и у Танюши сломался грифель. Мне так хотелось сделать ей что-то
хорошее, так любила я и Танюшу и рисование, что сказала: «Давай поточу!», взяла
карандаш и, оглядевшись вокруг (ножики и бритва убирались подальше от греха),
как-то наточила его молотком, острой его стороной, той, где гвоздодер. В
любимых книжках нам всегда было мало и событий, и картинок. Сколько оставалось
того, о чем можно еще подумать, нарисовать и рассказать!»
Об этом времени Таня написала целую книгу «Друзья зимние, друзья летние». При
жизни Тани я знал только один рассказ из этой книги – «Новогодний подарок», про
первую елку в Колонном зале, он даже был набран для новогоднего номера «Недели»,
но так и не прошел, может, потому, что в нем было слишком много грусти. А еще
два замечательных рассказа о военных временах: «Ленинградцы» и «Июль 1942-го» я
нашел в Таниных бумагах, уже перепечатанные в нескольких экземплярах, я сразу
же их напечатал в «Пионере», но и там пришлось снять несколько правдивых,
психологически точных, но не укладывающихся в казенное представление о войне и
о детской психике деталей. Таня чувствовала, что рассказы в этой книге не
продерутся безболезненно через редактуру, и готовила их для другого времени, до
которого не успела дожить совсем немного. Когда я перепечатал и сложил книгу,
то оказалось, что соседская девочка Наташа знает многие из этих рассказов, Таня
проверяла их на детях.
Замысел книги о детстве был ей так дорог,
что в своей последней больнице она спросила меня: «А если я долго буду лежачей больной, не смогу ни писать, ни рисовать?»
Я ответил, что тогда она будет либо диктовать мне свои сказки и рассказы, я их
перепечатаю, а Таня поправит, либо просто расскажет мне их, я запишу, она
отредактирует, либо подарю ей диктофон, а дальше мы вместе будем работать. «А что бы ты сделал, если бы я пять лет назад
не пережила операцию? Погоди, не спорь. Я ведь тоже думала, когда у тебя был
инфаркт, осталась ли бы я жить в случае чего. Осталась бы ради Галеньки и твоих
работ. Ну, скажи, что бы ты сделал?» – «Я бы издал все, что ты написала,
ответил я, и показал бы все, что ты нарисовала». – «Это счастливейший день в моей жизни!» – воскликнула Таня. И
рассказала мне эпизод «Опасное приключение» из книги про детство, как они с
Наташей и мамой переходили через площадь трех вокзалов, как Таня ухитрилась
перебежать на другую сторону чуть ли не под ногами лошадей и автомобильными
колесами, а потом на ветру, прижимаясь к теплой, освещенной солнцем стене,
свалилась во тьму и, по счастью, попала прямо в руки дяденьке, который принимал
туда товар для магазина.
Наутро я принес ей перепечатанный рассказ,
а Таня вынула блокнотик, где она уже записала этот рассказ карандашом. «Видишь, у тебя тут подробность, которая
выпала в моей записи, – сказала Таня, – надо
ее восстановить. Там ты найдешь и карандашные варианты, и машинопись, отберешь
лучшее, самое удачное, и рассказ готов…»
Там, то есть в ее мастерской, сразу после
Таниной смерти я нашел рукописи, разложенные по папкам и ящикам в идеальном
порядке, подобранные одна к другой. И принялся составлять рассказы из лучших
вариантов, печатая их один за другим, разложив все на сдвинутых в день поминок
столах. Вот составлен первый рассказ «Матроска», читаю его на поминках по
случаю девятого дня, а потом нахожу машинопись, всё до единого слова совпало,
только название другое, там он назывался «Нечаянно». Работа над этими
рассказами спасла меня. А еще на тех же столах раскладывались ее акварели,
Танины ученики Сергей Хмылов, ставший архитектором, и Александр Семенов,
веселый художник и писатель, автор «Ябеды-Корябеды», оформляли работы для
выставки. И мне казалось, что в этих цветах, детских лицах и в интерьерах
деревенских изб передо мной встает какой-то особенно родной мне мир, близкий с
самого детства в калужских краях. Я попросил Наташу написать про эти ранние
работы, и мое ощущение подтвердилось: с листов ватмана на меня глазами цветов и
детей глядела калужская земля. Это было уже в студенческие годы:
«Под
Тарусой жили долго, – пишет Наташа, – наверное,
около месяца, и рисовали лес с золотой, просвечивающей на солнце зеленью, и
белые стволы берез, и разноцветные огоньки цветов. В деревнях тоже было много
прекрасного: люди, беседующие вечерами, сидя на завалинках своих изб, и комнаты
в той избе, и живописный сарай во дворе, а на фоне его четко и жарко освещенная
телега. Прибегали ребятишки и мигом включались в наш мир. Кто тоже рисовал, кто
позировал, кто продолжал свою игру, включив в нее в качестве дополнительного
элемента и таких новых в их жизни действующих лиц, как мы. «Вы кто? Художники?»
«Нет, мы еще учимся». Знакомство состоялось, никто никому не мешает, даже
наоборот…»
А еще в тех работах – воздух студенческой
дружбы, надежд, очарования. Однажды прямо за чертежной доской Наталья Ивановна
вдруг сочинила стихи про те поездки на этюды:
Снова
вагон покачивает, славно вагон покачивает,
Словно
в мечту сворачивает. Снова слагаю слова.
Снова
на полустаночке выйти бы вместе с Танечкой,
Чтобы
в руках этюдники, а под ногами трава.
Солнце
над головою, лес прошумел листвою,
Спрятал
небо и солнце, а нас позвал рисовать.
Стройные
сосны, как струны между землей и небом,
Легкий
балет березок, миг – и пойдут танцевать.
Солнечный
луч рисует звезды в зеленом своде,
Тени
и нас с Танюшей, а мы рисуем его…
Рядом с ней всегда возникала поэзия. Даже
в больнице, где ей удалили опухоль и один из метастазов. В ночь перед этой
грозной операцией Таня, устроившись перед подоконником в коридоре, писала
смешную сказку про двух поросят – Чушку и Хрюшку. Здесь же она работала над
продолжением «Кузьки». Оборвись ее жизнь во время этой операции, не подари ей
хирург Владимир Борисович Александров (однофамилец!) еще пять лет жизни, и «Кузька»
оборвался бы на картине деревенского заката, которой наслаждались домовенок и
его друг Вуколочка:
« –
Ой, смотри! – Вуколочка повернул Кузькину голову к небу.
Долго
друзья глядели, как в небе сияют и переливаются алые, желтые, золотые лучи.
Кузька решил, что заря – это большущая лучина: солнце зажгло ее, чтоб не
ложиться спать в темноте. А Вуколочка сказал, что солнце уже засыпает и что
заря – это его сны».
Она умела отделяться от той обстановки, в
какую ее ставили судьба или болезнь. Для этого нужно было всего-навсего
почувствовать себя как бы сторонним наблюдателем рисовать или записывать
разговоры. Даже в раковом корпусе перед операцией она, пусть на мгновения,
оказывалась в своей сказочной, поэтической, народной стихии. Вот одна из ее
записей больничных разговоров. Возможно, именно Таня вызвала собеседницу на
такие воспоминания: «Мне двадцать пять
лет было. И приснился сон: солнышко спустилось мне на левое плечо и греет,
греет. Я говорю: «Что ты, милое?» А оно все тут. Я в избу, и оно со мной.
Пришла на работу, на конный двор, девкам рассказываю. Одна девка у нас была
старая, и говорит: «Помяни мое слово, хороший это сон, замуж в этом году
пойдешь». – «За кого, – говорю, – пойти? За эту лошадь, что ли?» Парни в войну
погибли, а кто цел, до пяти лет служили тогда. И ведь правда. Вернулся Вася.
Двух месяцев не погуляли, расписались».
Это
был голос хорошо знакомой послевоенной калужской деревни. В нее, как в сказку,
уходила она в самые тяжелые часы своей жизни, чтобы вместе с двумя придуманными
ею детенышами-домовенышами мечтать, глядя на деревенский закат, всплывающий в
ее памяти.
И опять про поездки в Тарусу на практику с
курсом или с сестрой на этюды; «Деревни в
50-х годах – были еще оживленными, – вспоминает Наталья Ивановна. – Избы с их живописными очертаниями,
естественно вписывающиеся в зеленое окружение… А внутри избы – целый мир,
отработанный веками, с печью, большой, белой и сложной, как дом: тут тебе ниши
и выступы всех очертаний и размеров (для тепла и просушки), и лежанка площадью
с комнату в типовом панельном доме, и самое устье печи с целой теплой комнаткой
перед ним. И мыться можно в этой печи, не только готовить. Тепло держит
сутками, дров берет не так уж и много. Сколько акварелей с этой печью, и даже
небольшая картинка маслом: печь, красивые занавески, красивая, необходимая
утварь. Вот на акварелях большая деревенская комната, стены и фотографии на
них, цветы на подоконниках маленьких окон. Целый мир запечатлен. Тут и люди,
кто жил здесь, и старые, и молодые, и много детей. Ни одного лица с выражением
безысходности, нищенства или моральной испорченности и нечистоплотности,
достоинство на всех лицах, старых и молодых. Много портретов ребятишек
поодиночке и группки друзей, сразу видно, что друзья и кто какой в этой
компании. Наверное, многие узнали бы себя или свой дом, если бы увидели эти
работы. Вместе с «портретами цветов» все эти портреты живой жизни Тарусы и
ближних деревень, лесов, полян и Оки легли в основу дальнейшей работы Татьяны
Александровой. Домовенок Кузька как будто из тех деревень, лешонок Лешик – как
будто из тех лесов».
Могу подтвердить, что Лешик и вправду из
тех лесов, куда Таня ходила с альбомом из поленовской баньки. Добавлю также,
что не только Таня рассказывала сказки деревенским детям но и они рассказывали
Тане былички как раз про тех самых леших, домовых, русалок. Помню, в
семидесятом году, когда аллергия не давала мне дышать Таня спросила: «Ну,
пожалуйста, вспомни, где тебе когда-нибудь, может, и в детстве, лучше всего
дышалось?» И я вспомнил деревеньку на пути от станции Тихонова Пустынь к
монастырю с тем же названием. Мы с отцом и с мамой прямо-таки бежали в 1936
году из тогдашней Западной области, где отца исключили из партии, а по ночам
вызывали на допросы в НКВД. Вспомнил деревеньку в лесу, мимо какой мы проходили
тогда. Извилистая речка с ракитами, серые избы, крытые золотой соломой. «Как
здесь дышится!» – сказал отец… «Едем сейчас же туда!» – сказала Таня, мигом
собралась, и вот мы уже шагаем по лесной дороге от станции Тихонова Пустынь.
Деревенька оказалась на месте, звали ее – Копытцево, домов было не сорок, а
восемь, ракиты стали еще огромней, а дома были под железом, обросли верандами,
перекрасились в веселые дачные цвета. Жило в деревне несколько стариков и
старушек, а летом наезжала родня с детишками – отдыхать и возделывать огороды.
Дыхание, как в сказке, сразу же открылось. Здесь-то Таня и написала последний
из ее деревенских интерьеров, отсюда – надписи на спинках кровати. А хозяйкин
внук неутомимо рассказывал ей про то, как в здешних лесах неведомые существа «водят»
подвыпивших стариков… Прямо-таки «Бежин луг».
Видимо, Таня и вправду была гением.
Замыслы ее имели свойства расти и двигаться. И на ранних работах уже как бы
лежал отблеск того, что будет создано в зрелости, в пору расцвета. Эти работы
словно бы «выламывались» из той действительности, в какой они были созданы, не
совпадали с ней. Об одной из таких работ, которая была курсовой работой
студентки Татьяны Александровой, вспоминает ее сестра: «Вот небольшая картина – «Сельский детский сад», где запечатлено все
наше богатство мир детей с душевными сокровищами каждого ребенка и общей для
всех радостью жизни. Тут и мир цветущей под окнами, и вся бедность нашей жизни
в те годы: кроватки вплотную друг к другу и раскладушка в проходе. И одна –
добрая хорошая но одна – нянечка на всех этих ребятишек… И разумеется, Великий
Вождь, Отец всех народов и всех детей на свете – на стенке…» В эти
стриженые спящие головки хочется вглядываться без конца, как и в чудесную
девчушку в белом одеянии, шествующую, как некий дневной лунатик. Не вышло у
Тани идиллической картинки колхозной и детской жизни, а портрет Сталина не
только не помог признанию картины, но, наоборот, он как бы навис над этими
головками, в которые вбивалось обожание вождя и радостное подчинение везде, во
всем ему и любому начальству. Конечно, она владела реалистически-идиллическим
стилем того времени, но каждая деталь словно вырывалась из этой картины и
требовала себе свободного развития. Тут вся Татьяна Александрова: и портреты
детей с передачей индивидуальности каждого, и ее будущие натюрморты (Таня
любила писать вместо натюрмортов игрушки, брошенные детьми после игры, это
сразу и сказка, и сценка из детской жизни, и, разумеется, настоящий натюрморт
или, как его называют англичане, «стилл лайф», то есть «тихая жизнь»), тут и
Танин излюбленный зеленый цвет, а вернее свет, тут и заоконный пейзаж, с
которого начнутся все ее пейзажи, и букеты цветов на окнах, от которых пойдут
все ее микропейзажи и портреты цветов, и приколотая к стене репродукция «Трех
богатырей» Васнецова, намек на ее будущий сказочный мир.
Работа в 1950 году над «Сельским детским
садом» была для Тани (ей тогда шел 22-й год) очень важным событием. Она уже
почти нашла себя. Вот неотправленное письмо однокурсникам Борису Неменскому и
Михаилу Стриженову: «О моей линии ты
пишешь, о “своем методе обобщения”,– да, это верно, Боря. Она еще не определена
до конца, не четкая и ясная совсем, но свой взгляд на жизнь, на изображение
жизни – есть. Наивный он, может быть (многие говорят об этом) жаль очень, да
ведь я не буду в этом замыкаться. Или не наивный, а идеализированно вижу жизнь
(одно и то же). Посмотрим». А на деле – точность взгляда с ощущением
идеала. И очень крупные замыслы.
В том же письме – как Таня работала над
картиной: «Привыкаю детенышей рисовать.
Но так ровно идет сейчас – даже страшно – затишье перед грозой. Ей-богу.
Медленно, правда. Еще над образами не начала работать как следует. Интерьер
только. Кроватки, стульчики с куклами, стены (даже портрет Сталина!), окно (с
пейзажем!). Трудно с образами – мухи ужасно мешают, особенно сейчас, осенью.
Человек не лежит спокойно больше пяти минут. 10 человек у меня вышло в картине.
Самая большая головка – в пол-ладони. Страшно даже начинать их делать. Написала
этюды спящих. Как я не надоела там – не понимаю. Целый день сижу, до закрытия,
прошу оставлять кроватку неубранной, двигаю их немного. Ребятки, правда,
привыкли, а скоро, наверное, спать без меня не смогут. Смешные они. Как все
серьезно делают». Так она осваивалась в мире детства. Не Сталина будет
когда-нибудь знать каждый малыш в России, а ее домовенка Кузьку. И вот –
уступка требованиям времени: «Жаль, что в «Садике» нет образа руководительницы.
Обидятся. Я ее нарочно в конце напишу».
В семидесятых годах ей не дадут
иллюстрировать собственного «Кузьку в новой квартире», пусть испытывает себя в
книжке-малышке Елены Благининой «Бабушка Забота». И тут вновь возникнут спящие
дети со спящими игрушками, в бабушке легко узнается любимая Матрешенька, а
среди малышей можно узнать Ванечку Скорикова, Таниного внука, хотя родится он
тогда, когда Тани уже два года не будет на свете. Словно и Ванечка – ее давний
замысел! Какая досада, что ей по ее
тогдашнему месту в иерархии (даже не член Союза художников!) не дали
иллюстрировать «Кузьку». Это сделали графики Чайко и Гран. Их домовята
выглядели совсем не деревенскими, а вполне западно-европейскими карлсонами, а
детали современного быта вышли слишком натуралистическими. «Пусть у вас будут
персонажи 17-ro, а быт 23-го века!» – умоляла художников Таня. Те говорили ей о
своем художническом видении, затеяли теоретическую дискуссию, но Таня
прекратила ее таким рассказом: «В наш магазин «Диета» пришла покупательница,
вызвала директора и дала понюхать только что купленные ею котлеты: «Замените!»
Директор сослался на инструкции, ударился в теорию. «Да я же не из принципа, –
взмолилась покупательница.– Мне же их есть надо!»
Между тем первых домовых в деревенских
избах он изобразила еще в студенческие годы. На одной картинке девочка в
старинной одежде обнаруживает под веником возле кадки седого курносого
человечка в красном колпаке и лаптях. Именно так начнется и закончится через
много лет «Кузька». На другой картине – семья домовых: мама-домовушка в
кокошнике под красным платком, отец, дед, трое детей, все облизывают деревянные
ложки и слушают, что им не то читает с листа, не то рассказывает по невидимой
нам картинке рыжеволосый домовенок, первый набросок Кузьки. Таня еще не знала
тогда, что увидеть домового в колпаке – не к добру, все они потом ходили у нее
с открытыми головами, и что имя Кузька подобрано точно – в некоторых губерниях
домового называли «кузоватка».
После института Таня пять лет работала на
студии «Союзмультфильм», делала так называемые задники, то есть писала
рисунки-декорации в которых будут действовать рисованные или кукольные герои.
Тесно ей было, наверное, в этом прикладном художестве: «задники» становились
картинами розового от зари зимнего леса или таинственного майского ночного
пруда с лежащим на воде среди цветущих кустов отражением белого месяца. Да и ее
замыслы, например те же домовята, были вполне зрелыми и новаторскими, вот был
бы мультфильм! И он возник, но уже после того, как «Кузька» был написан. В день
Таниных похорон позвонила с телевидения Алла Константиновна Феодориди, уже
давно искавшая режиссера. (Она как-то была у нас, хотела подвигнуть меня,
известного, а значит, приемлемого для начальства детского автора на работу в «Мульттелефильме»,
но увидела Таниных домовых на стенах, получила в подарок «Кузьку в новой квартире» и стала искать режиссера для мультфильма,
такого, чтобы не сделал из наших домовых пусть прелестных, но иностранцев.) «Можно
Татьяну Ивановну? – попросила она. – Мы хотим ее порадовать. Режиссер нашелся,
«Кузька» в плане, срочно нужен сценарий».
Я написал сценарий для фильма «Дом для Кузьки», хватило сил даже
сочинить веселую песенку. Режиссером была Аида Зябликова, потом она сделала еще
четыре серии «Кузьки», книжки ей не хватило, и сценаристке Марине Вишневецкой
пришлось выдумывать для Кузьки новые приключения. По этому мультфильму
домовенка узнали все дети в стране.
Как, наверное, томило Таню в ее молодости,
перед картинами из жизни домовых, отсутствие самой сказки. Вот бы положить обе
картины в какой-нибудь волшебный сундук, чтобы он по этим картинкам рассказал
сказку. Не тогда ли возник замысел волшебного Кузькиного сундучка?
Какое счастье, что она сама решилась
писать сказки по своим рисункам! Как много ей это дало! Длинненькие и
кругленькие сошли с цветных листов и стали угрюмиками и веселяшками из ее
последней сказки. Угрюмики все делают, руководствуясь только точнейшим
расчетом, веселяшки же все придумывают только по вдохновению. А сюжет про то,
как искали Алешу, превратился в сказку старой тряпичной куклы Акулины
Мирмидонтовны про то, как потерялся в лесу крохотный Федотик, он успел
пообщаться и с белкой, и с лисой, и даже с медвежонком и медведицей, пока его
сестренки собирали землянику. Хорошо, что кукла им попалась по дороге, а то бы
пропал Федотик! Наверное, этот сюжет возник из рассказов няни Матрешеньки про
ее деревенское детство; одну из сестренок так и зовут – Мотей.
Но не пропала и повесть про
детей-интеллектуалов, которые не хотят брать «одноклеточных» в космос. В 70-х
годах Таня решила написать этакий «Бежин луг» у походного костра. Она часто
рассказывала про походы по Подмосковью со своими студийцами, а заодно с юными
астрономами, юными археологами из Дворца пионеров. В конце жизни она стала
сочинять эти рассказы об инопланетянах, ребяческие фантазии о бессмертии, о
том, как в будущем станут учить в школе: первоклассники будут в школах с
историческим уклоном, как их называла Таня, еще и «первобытниками»,
пятиклассники кто – мушкетерами, кто опричниками, проходя одну эпоху за другой,
причем главным наказанием для озорников и лентяев будет требование учителя: «Пожалуйста,
изложи, как казнили и чем наказывали людей в изучаемую нами эпоху!», а 20-й век
будет соответствовать переходному возрасту, когда столько изобретено, но при
этом чуть не была загублена планета. К этому Таня добавила множество подобных
историй, сразу и смешных и трогательных, озорных и строгих, торжественных. Вот
рассказ про то, как один народ (весь целиком!) поплыл в гости к другому народу,
чтобы вместе отпраздновать наступление всеобщего мира, ибо война – это, в
сущности, дико извращенный насилием и смертью «поход» огромных масс одного
народа «в гости» к другому народу, так уж пусть будут лучше званые и желанные
гости, чем незваные и ненавистные!
Все это должно было собраться в «Таинственной тетради», куда
старшеклассник записывал свои фантазии; он потерял ее на троллейбусной
остановке, и вот тетрадь изучает мальчишка помоложе. Правда, сводить эти
рассказы и толки в ту тетрадь пришлось уже мне одному. До сих пор не всегда
различаю, что Таня записывала для себя, а что намеревалась вложить в уста
сидящих у костра мальчишек с постиндустриального «Бежина луга».
Даже «Кузька», с его домовятами, лешиками,
русалочками, кикиморами, двумя домами Бабы-Яги, не был полным и окончательным
завершением Таниного замысла. Идея была еще крупнее. Вот что, к примеру, должно
было быть сказано на Танином «Бежином лугу»:
«–
Мне обидно, что они – не настоящие, никогда-никогда не увидим, не встретим, что
их нету домовых, русалок, леших, ведьм, ну, всех в общем… Лет десять
ждала-ждала эльфов (бабушкина сказка, что они за окном мелькают), а они не
пришли.
–
Понимаешь, если они уйдут из жизни, совсем обидно будет. И неправда, большущая
неправда. Помнишь у Петрарки: при разговоре пар изо рта – это еще не всегда
живые. А литературные герои живее, чем некоторые живые люди. Тепла и толку от
них больше.
А
вдруг когда-нибудь люди научатся создавать (сейчас – голография) по своему
образу и подобию не только богов и детей, но и (зачеркнуто: небольших роботов)?
Это же символы отношений человеческих – к природе, к людям, добро и зло – это
ясно… (Зачеркнуто: Одиссей, Буратино, Татьяна…) Не нам отказывать им в праве на
жизнь».
В этой записи Таня упомянула историю,
рассказанную Львом Токмаковым, когда он вернулся из Польши. Обсуждали шахтера,
художника-примитивиста. Тот слушал выступления и наслаждался. Потом взял
заключительное слово: «Хорошо говорили паны. Спасибо всем. Но вот с вами, пан
искусствовед, я решительно не согласен. Вы говорите, что гномов не существует?
А вот эти маленькие, бородатые, в красных колпачках, это кто, по-вашему?» Вот
тут бы и войти живому гному, как об этом мечтала Таня!
И еще один замысел. То, как еще в
девичестве она задумала себя взрослую. «Какой
я человек? – записала она в двадцать лет. Оказывается, я сама совершенно не знаю… Не хватает мне мудрости жизни,
но данные сильного, большого человека – есть: и я постараюсь быть им, быть
достойной себя… Я – это я, жизнь у меня одна, одна жизнь! И жить так, как я
хочу (в главном, конечно). Стать таким человеком, каким хочу». И еще: «Жизнь – одна, и страшно, если она пройдет
без следа для людей, прожить и уйти – слишком дорога жизнь для этого. Ведь
больше никогда я не буду на земле, не увижу, что сделали и как живут люди».
Она стала таким человеком, каким хотела стать. И ни один из ее замыслов не мог
бы не только осуществиться, но и возникнуть, если бы у нее не было в юности
этого замысла – стать такой, какой хочется.
4. Ее духовный расцвет пришелся на так
называемую эпоху застоя. «А зачем я здесь?» – наверное, не раз думала она не
только на методических совещаниях. Но раз уж я пишу ее портрет, то надо
помнить, что она почти никогда не жаловалась. Лишь однажды донеслось до меня,
как уже после операции продолжает мучить и томить ее страшная болезнь. «Можно
мне не жить?» – задумчиво спросила она. И очень внимательно выслушала все
аргументы против. Конечно, все ею написанное могло участвовать в жизни при ней,
конечно, ее и при жизни могли бы признать, понять и оценить. И какое это было
бы счастье не только и даже не столько для нее! О том, что этому помешало,
скажу коротко и сухо.
Время было казенным, абсурдным и пошлым,
хотя мы бы этого не ощутили, не будь рядом стольких людей внутренне свободных,
с ясным умом и чистой душой. И все же… «Берестов тащит свою жену в литературу»,
– сколько зла принесли ей эти пошлые толки. «Он ушел от семьи к этой женщине, а
вы ее печатаете?» – гневно произнесла некая дама, которая теперь (раньше это
делали Горький, Чуковский, Маршак, Житков) «курировала» детскую литературу,
встретив на обложке «Кати в Игрушечном городе» наши фамилии. Дело тут не в
пуританстве дамы. Мне кажется, я ее видел, когда выступал со стихами на вечере
в Доме литераторов перед издателями и их «кураторами» из Комитета по печати.
Властная пожилая дама металлическим голосом твердила кому-то: «Кто посмел
пригласить сюда Берестова?» Моя репутация была испорчена подписью под письмом в
защиту Синявского и Даниэля. Ну, а какая может быть жена у такого человека?
А еще – иду по льду из Поленова в Тарусу,
в читальню, получив письмо от критика Веры Смирновой про нашу «Катю»: мол,
книга слишком похожа на повесть старой писательницы Э. Эмден. И моя телеграмма
из Тарусы, что сходства нет никакого. Вера Васильевна предупредила, что ей
поручили разгромить книжку, и как бы спрашивала нашего разрешения на это. После
той телеграммы она не пришла делать доклад в Дом детской книги.
Не буду писать о гонениях и гонителях,
мучениях и мучителях. Таков был стиль эпохи. Вот Танина запись про безымянных
бюрократов шестидесятых годов: «Командировка.
Скучные деятели подписывали бумаги… Кивают друг другу и поддакивают. Мы им
деликатно объясняем, будто сами не очень понимаем». Нужно было прибедняться,
придуриваться, выдавать большое за малое, новое, необычное за привычное,
общепринятое, давно одобренное кем-то «сверху». И не только в учреждениях,
а порой даже в семье, в дружеских компаниях. А то пойдут всякие слухи, толки, а
за ними и начальственные, как тогда выражались, «оргвыводы».
– С тобой, – говорил я Тане, – все
происходит: как в чеховском рассказе «Детвора». Малыши играют в лото, ставят по
копейке. А у гимназиста – рубль. Но в игру его не берут: «Нет, нам нужна
копеечка!» Ее заставляли чувствовать себя нежеланной гостьей, жалкой
просительницей, а она была по всему своему складу – хозяйкой.
Во время Московской Олимпиады в 1980 году
Таня меня удивила. Я-то думал, что она будет заглядываться на спортсменов, на
экзотических туристов, а она глядела на москвичей, которые остались почти одни
в закрытом на дни Олимпиады городе, все ей казалось, что вон ту старуху она
помнит молодой, а этого импозантного мужчину когда-то за детскую ручонку
переводила через улицу. Ах, как жаль, что почти не осталось ее цветных рисунков
с чашей Лужников, сотнями лиц-песчинок, моментами состязаний! Турист-иностранец
глядел Тане через плечо. Я перевел с английского его слова: «Я – греческий
инженер. Мне очень нравятся ваши рисунки». И Таня подарила их ему, все до
одного, добавив, уже не для перевода: «Во-первых, олимпиады придуманы греками,
а во-вторых, я – москвичка, я – здесь хозяйка, пусть думает: вот как видит мир
первая попавшаяся русская женщина».
И я вспомнил Всемирный фестиваль молодежи
в Москве в 1957 году, наше братание со всем миром. И всюду фигура русской
красавицы в кокошнике и сарафане, в руках – на расшитом рушнике хлеб-соль, в
виде арки слова «Добро пожаловать!» Вдохновение свое оформители черпали с
почтовой открытки, которую Таня вместе с Наташей придумала и нарисовала к
фестивалю. Где только и в дни фестиваля и потом не появлялась эта композиция,
увеличенная до гигантских размеров, подслащенная, приукрашенная! Разумеется,
никакого авторского права, ни копейки за идею. Натурщицы не было, Таня писала
хозяйку фестиваля с самой себя. И что удивительно! Запомнил открытку, а через
год в калужском селе Воткино увидел Таню в настоящем, из бабкиного сундука,
народном костюме, в повойнике, «с давками и пуклями», в поневе, рубахе и
занавеске. Наряд, по мнению всего села, так пришелся ей к лицу, что на Тане и
остался (плата была символическая), лишь валенки с галошами пришлось вернуть. А
потом в этом костюме она позировала самой себе перед зеркалом для портрета
Купавы, сказочного персонажа из «Снегурочки» Островского…
Постепенно, эскиз за
эскизом, она превратила свое лицо в юный лик совсем другой женщины, щедро
использовав для узоров, украшения и фона чудом попавшие к ней листочки золотой
фольги. Была и серебряная фольга для Снегурочки, никак не могла найти для ее
портрета натуру, а сама не чувствовала себя Снегурочкой, гостьей в этом мире, а
не хозяйкой. Есть только один набросок…
После Таниной операции, каждый день дрожа
за ее жизнь, я стал записывать за ней, не нарочно, а среди других записей, ибо
ее дела, ее слова, ее здоровье стали главным содержанием моей жизни. Вот
некоторые из моих, а заодно из ее собственных записей:
«15. 11. 79 г. Ездим с Таней по аптекам.
Чувствует себя крепче. Вторую половину дня провели в читальне ЦДЛ, читали
Шейна, дивный мир народной песни. Вечером Таня рассказывала Галке и зятю
Андрею, как ей на занавеске и в окне больничного бокса после операции виделся
тот мир, лица людей, большей частью незнакомых, которые как бы собрались и
остановились на мгновение, чтобы показаться ей и увидеть ее. Среди них было
молодое (лет 27) лицо ее няни Матрешеньки, живописное, красочное, а в небе, в
рисунке ветвей – графичное лицо моего папы. Матрешенька была сплошная доброта.
Папа был строже, как бы суше, но он тоже добр и не хочет, чтобы Таня очутилась
в том мире. Он заботился обо мне, пусть Таня останется со мной. Он хотел
осуществить что-то свое через меня, чтобы это узнали… Тот мир какой-то, как
Таня говорит, разжиженный. Если у нас тесно, то там они как песчинки в пустоте.
«Завязать бантик – даже таких радостей они лишены. Но там какие-то свои законы,
неведомые нам. Оба мира как-то связаны. И от того, что мы делаем, зависит
какое-то их будущее счастье». Потом читала очень смешные записи больничных
разговоров.
2. IV. 79. Танюша устала: «Нельзя вешать
на один гвоздь шубу и полотенце».
22. V. 79. Знакомая дама укладывает дочку
спать «по Споку»: поплачет, мол, и перестанет, а назавтра и не заплачет. Таня:
– А как же колыбельные? Как же сказки? При таком способе не было бы у Пушкина
его мамушки…
9. VII. 79. Прилегла на траву в лесу: «Хочу
полежать и поглядеть в небо, чтобы вспомнить это зимой».
Таня радовалась: «Земляники, как солнышко,
черничинки, как синие ночные фонарики, и ничего не надо ни готовить, ни даже
мыть, сиди и ешь». Она и в лесу осталась доброй хозяйкой, все меня угощала.
Потом пошел лес с папоротником, потом канавы, залитый черной болотной водой. «Тут,
– сказала Таня,– у комаров и ясли, и детсады, и школы, и университеты». Дивный
мягкий мох, тонкие рябинки в подлеске. Голоса птенцов как позывные. Окрепшие,
уверенные, это и «Мама, я здесь!», и «Хочется есть!», и просто «Я есть, я живу!»
12. VIII. 79. С Таней – в Селятино… Таня
устала, думает о конце, напуган, утешаю ее… Детская игровая площадка в
древнерусском стиле, 30 витязей, выходящих из лужи. Милые дети. Таня: «Город с
биографиями, но без истории».
13. VIII. 79. Ожидание на жарком
полустанке. Туча. Таня любуется фигурками людей вдали, воробьем, вскочившим с
рельсов на платформу, трясогузками. Слева ей чудится немецкий пейзаж, справа –
японский. Облака закрыли солнце, благодать, мы счастливы.
Дачный лес, полный отдыхающим народом. Таня: «Смесь
Брейгеля с Левитаном».
9. ХII. 79. Таня эти дни обижалась на меня
за желание куда-нибудь уехать, чтобы работать, и мы, к моему ужасу, не ладили.
Вышли гулять, удивились, что так было. Таня: «Боги, если они сочувствуют людям,
видя, что самые близкие не ладят, думают, наверное, что людям нужна война, и не
препятствуют ей». Пошли по освещенному солнцем снежному полю. Лесок с птицами
на верхушках деревьев. Таня: «Солнце низкое и лес сам себя затенил, хоть он и
прозрачный», и указала на тень леса на стене пятиэтажки. Оглянулась: «Дымы над
ТЭЦ и все прочие таковы, что, глядя в сторону города, чувствуешь себя
Наполеоном, наблюдающим пожар Москвы».
Из Таниных записей:
«Человечество
сейчас как дети. За ними глаз да глаз. Прятать острые предметы.
Человечество
– единый самообучающийся механизм, то есть организм. Иначе почему все так любят
поучать друг друга?
Наш
век – революционный. Каждый совершает или хочет совершить какую-нибудь
революцию, всякую, любую по качеству и количеству, что в ком заложено. Кто
Революцию всемирную, кто революцию собственного живота (не кушать то-то и
то-то). И все верят – такое время революционное, наш век. И НТР как слагаемое, и
всякие прочие революции. Даже стали говорить – революция в области такой,
сякой, революция того или сего… И достается лучшим, достается болей, тяжести,
смерти. От дела достается, от свершений, и – от злобы, и зависти, и темноты.
Революция
Духа? Потихоньку, может, и произойдет. Наверное, в этом и суть. Революция без
крови (в самом крайнем случае – кровавые мозоли, и то у желающих, и то
считается плохо: плохо продумано, плохо придумано). Вот это будет Революция!
А
может, уже происходит? Что произошла – едва ли. Кровь льется по всей планете,
то там, то там. Дураков, что ли, много рождается. Или всепланетная дурость всех
веков держит этот уровень. Скорее всего так. Если человек в чем-то дурак, то
займется делом, в котором он – умный…
Мимо
окна бежит человек в тренировочном и кедах. А все-таки здорово, что люди уже
одеваются хотя бы удобно и как хотят. Хорошая мода – свобода. Пусть хоть в «малых
формах» пока. Через еду и всякий быт.
Такой
наш век – революционный. А тихая-тихая революция, может, она уже и идет (в
смысле – происходит). И мы не очень слышим, потому что тихая.
И снова – мой дневник:
«11. Х. 81. Вспомнил, как Пушкин загадывал
загадки: «Вот загадка моя, хитрый Эдип, разреши». Сфинкс убивал тех, кто не мог
угадать, «кто утром на четырех, днем на двух, вечером на трех ногах». А это
означало «человек» или проще «я сам», в детстве на четвереньках, в старости – с
палочкой. Таня ахнула: «Кто не понимал, что речь идет о нем самом, того
убивали. Вот и человечество должно понять, что ответ на мировую загадку – оно
само! И убийство прекратится навсегда…»
13. Х. 81. Фольклорный концерт в ЦДЛ. Мы
боялись, что не будет билетов, что писатели кинутся на концерт, особенно
почвенники, которые с недоумением будут смотреть на меня: он-то, городской, что
здесь делает? Из писателей пришли лишь Вебер и я. Многих уговаривал, кто по
другим делам заглянул в ЦДЛ, но все куда-то спешили, в том числе и главные «народолюбцы»…
Мы с Таней сидели в первом ряду и были просто счастливы. Таня время от времени
рисовала цветными фломастерами. На сцене сидела красивая женщина, одетая как
школьница, в коричневом платье с белым воротником, глаза ее со сцены
посверкивали, она улыбалась, а со стариками и старушками, ее певцами и
плясунами, обращалась по-матерински, как с малыми ребятами. Объясняла
особенности пения и танцев, называла фольклористов, которые рекомендовали
ансамбль. От всего концерта поразительное ощущение доброты и веселости. Таню
заметили и, уплясывая со сцены, именно ей улыбались и махали руками.
Ой, по травке, по муравке гулять – не
нагуляться.
Ой, кого люблю, кого люблю,– глядеть не
наглядеться.
15.1II.82. Таня по пути с моря вспомнила,
как во время войны в Ярославле водила в детсад маленького эвакуированного
мальчика и рассказывала ему про очень маленьких людей с короткими именами (2-3
буквы, у царя – целых 5 букв) и про их удивительную жизнь. Об этом напомнила ей
мышь, перебежавшая через улицу.
21. V. 82. Мы с Таней в Малеевке. Впервые
через болотце, каким стала дорога, пошли на тот выгон среди берез, где много
бывали в прошлом году, цвели баранчики – Дюреровы первоцветы. Цвели хвощи. Таня
их рисовала. Они напомнили ей негритянок в юбочках из пальмовых листьев.
Вечером у другого оврага – запахи и белые
видения черемух, в глубине – два соловья. Красноватая и розовая пашня на закате.
Красный свет заката сквозь деревья. Таня все тревожилась, что соловей
испугается нас и перестанет петь. Я ответил: «Соловей никого не боится, когда
поет». Потом он помолчал. Таня испугалась, не съела ли соловья наша знакомая
сойка. Я утешил: «Все боятся соловья, когда он поет». Может, это и так…
Вечером в комнате у Веры Николаевны
Марковой. Она вспоминала, как в деревне рассказала французскую сказку про
голубую птицу, а потом услышала за стеной: хозяйка пересказывает ее уже как
глубоко русскую, и почувствовала себя кем-то вроде странствующего купца,
которые в старину перемешивали сказочные сюжеты… Она помнит младенческие грезы.
Все до одной розовые, счастливые. А потом они сменились тревожными и
кошмарными, младенчество кончилось, началось просто детство. Считает, что все
дети видят в темноте свои грезы и поэтому боятся ее. Но много и красивых грез.
Не многие помнят об этом. Как вообще мы мало знаем человека, самих себя!
Когда слушали ее, возникло чувство, что
смерть для человека необязательна, ее что-то «прививает» нам лет в пять,
вкладывает в нас эту программу.
Природа
– сфинкс. И тем она верней
Своим
искусом губит человека
Что,
может статься, никакой от века
Загадки
нет и не было у ней.
Таня сказала, что природа загадывает
человеку загадку про него самого, а он ищет отгадку в природе, где угодно, но
не в себе, и за это каждого карают смертью. Отгадает, как Эдип, и смерть упадет
со скалы.
Стихи Веры Николаевны про Таню:
В ее
глазах прелестная открытость
С
которою ребенок видит мир,
Не
эта стекленеющая сытость
Людей,
давно объевшихся людьми,
Не
знающих, как велика потеря –
Все
увидать невидящим зрачком.
Как
хорошо впервые встретить зверя,
Впервые
познакомиться с цветком.
Из Таниных записей:
«Этой
ночью приснились сны, много снов.
Первый
возникает ясно, ясно так: «У вас в пространстве – север, юг, запад, восток,
юго-запад… Иначе вы заплутаетесь, заплутаетесь. У нас для ориентира, как
компас, – добро и зло. Вернее, по-вашему – доброта, не просто добро, доброта и
зло».
Чтоб
не забыть – дали кусочек (пространства?) – чего-то другого зажала в правом
кулаке – что-то вроде мягкого пергамента (оторвали кусок кожи) – сжимала его
все другие сны – всякие-всякие, про Валюшу, Галеньку, Андрея, И. Грекову (как
будто она позвонила, и мы разговаривали с ней про Малеевку) – распахнулось
окно, и Валюша закрывал его – через все это сжимала в руке кусок из того сна,
чтоб не забыть его.
29.
XI. 82. Как-то грустно писать дневники. Наверное, потому, что о проходящих
днях. Даже смысл живописи понятен. Такой же прекрасный серый день, как сейчас,
голые деревья. Но деревья качают ветками, птицы залетают на балкон. Очень уж
прекраснейша жизнь. Просто чудо. Жаль, что проходит. Но ежели бы так все
осталось в неподвижности навечно,– не то к вечеру все бы со скуки померли. Да и
никакого вечера быть бы и не могло. А вот ежели движение вечно – и для нас, для
людей, тоже – ей-богу, больше радости было бы. Уж очень все здорово!
Сегодня
Матрешенька приснилась. Тихая, милая, добрая как всегда. Спали с ней в разных
комнатах. Я говорю ей, что боюсь проснуться – страшный сон, что ее нет. А вот
есть, и все хорошо, и никак не наслушаешься ее милого голоса. Так и стояли
обнявшись.
Наверное,
надо записывать замыслы. Даже самые яркие, определенные. Потом загораживаются.
Как тот сон о добре и зле. Держать в руке этот исписанный кусок пергамента (из
вечности, что ли? Слово ВЕЧНОСТЬ так прекрасно, что даже кажется суровым. Ну,
это с детства, наверное. «Вечно ты возишься, копаешься, шнурок в ботинок
засовываешь… Ждать тебя вечность, что ли?») Почти приснилась притча о добре и
зле (дома, в Москве) и еще – последние строчки несколько раз повторила, чтобы
запомнить (приблизительно) – ПУСТЬ ОКЕАН ВРЕМЕНИ СВОИМИ ЧИСТЫМИ ВОДАМИ ОМЫВАЕТ
ЭТУ БЕДНУЮ ПЛАНЕТУ».
Одна из последних записей про Таню: «Люди
забывают плохое, они незлопамятны. И если они не забыли язык, идущий из самой
глубины времен, значит, это очень хорошая вещь», – сказала Таня.
Один из последних разговоров:
– «Мороз и солнце… Пора, красавица,
проснись…» Бедный Пушкин! Не было такой женщины. Это его мечта.
(Потом
проверил. Еще в лицейских стихах-мечта: «Я жду красавицу драгую. Готовы сани».)
Последнее великое увлечение работы Ефима
Честнякова, который так ей близок и как художник, и как сказочник.
Последний выход в город – на выставку
Честнякова.
Последняя написанная сказка – про Разиню и
Растяпу: «Нужна общенациональная, с детства, прививка против разгильдяйства».
Последний замысел в изобразительном
искусстве. Купила для этого картон и темперу. Внутри, как на иконе, кто-нибудь
из героев ее любимых детских книг, ее святыня, а вокруг, в квадратных «клеймах»,
– самые дорогие эпизоды из этих книг. Первой, судя по наброску, была Марийка из
книги «Марийкино детство».
Последняя радость Статья в декабрьском
номере «Детской литературы» (успела получить, умерла она 22 декабря), Лола
Звонарева, «Пишущий художник». Все и про все сказано, и про «Кузьку», и про «Лялю
Голубую и Лялю Розовую», и про «Катю в Игрушечном городе», и про «игрушечную
школу», и про «портреты цветов», и спящий Кузька воспроизведен. (Про то, что
существуют, написаны «Друзья зимние, друзья летние» и «Таинственная тетрадь»,
не только Лола, но и мы с Галкой и Наташей не знали.) Когда я читал то место в
статье, где говорится, что образцом для Тани была Елена Дмитриевна Поленова,
Таня с трудом произнесла: «Как… это… справедливо…» Думаю, «это» относилось
вообще к весточке из будущего ее произведений, которую успела-таки получить она
сама.
Последние слова в ответ на: «Тебе очень
плохо?» – «А почему… ты… так… думаешь?»
Читайте также
§ 3. Фонетика. Орфоэпия. Графика
©>
17. Ответьте на вопросы и выполните
задания.
1.
Расскажите о звуках русской речи по
следующему плану:
а) на
какие две основные группы делятся все
звуки;
б) сколько
гласных звуков, их характеристика;
в) на
какие группы, по какому признаку делятся
согласные звуки;
г)
какие звуки не имеют парных по
глухости-звон- кости, твёрдости-мягкости.
Проведите
фонетический разбор слов
поезд, вьюга.Расскажите
об особенностях русского словесного
ударения. Приведите примеры.Подсчитайте
количество слогов в словах
возродиться, жужжать, алый, сестра,
для чего запишите все эти слова в
фонетической транскрипции по образцу:
[пбж’ь]
и доп. [пожъ].
®>
18. Используя данные тезисы, расскажите
об особенностях произношения русских
гласных и согласных звуков. Приведите
примеры, подтверждающие каждый тезис.
Гласные
звуки под ударением произносятся
отчётливо, хорошо различаются.В
безударном положении звуки [и], [ы], [у]
различаются, а звуки [э], [а], [о]
произносятся ослабленно, неотчётливо,
заменяются другими гласными.Звонкие
согласные на конце слова и перед
глухими оглушаются.Глухие
согласные перед звонкими озвончаются.Согласные
перед е в словах иноязычного
происхождения в одних случаях
произносятся мягко, в других —
твёрдо.
Г
I л т’г m
л
Ш>
19. Из предлагаемых вариантов выберите
правильный и запишите его, обозначив
ударение. В каком примере оба варианта
являются правильными?
Не
О
л тт тх
куст
смородины
Поздравить
с
день рождением с днём рождения с днём
рождением
день
рождения
Дешёвые
^
Мой-
Моё’
цены
Дорогие
Выдающий
Моё
Моя-
/высокие
v низкие
художник
§®
фамилия
фамилие
Выдающийся
Проявка
Проявление’
прекрасный
красивый
Очень
пленки
^
автобиография
Моя
биография
/
памятник
Мемориальный
музей
издало
^ напечатало—^» пособие выпустило ^ о
том, что…
Указывает
на
то, что…
&
20. Спишите текст, раскрывая скобки и
заменяя фонетическую запись
орфографической.
Прочитайте
выразительно. По учебнику или по тетради
вы будете читать? Почему?
О
чём этот текст? Какова его основная
мысль? Определите тип и стиль речи.
Объясните значение выделенных слов и
выражений.
Издательство
«Дрофа»
Вспом[и]наются
р[ь]зультаты сравнительно (не) давнего
соц[ы]ол[а]гического опроса
в (Санкт) Петербурге. На вопрос о том,
как вы относитесь к о[б’Гиэ]влению
(Санкт) Петербурга
свободной [экономической зоной,
«положительно» ответили
более 50% опроше[н]ых, а на вопрос о том,
что означает (слово) соч[иэ]тание
«сво
бодная [экономическая зона», правильно
сумели ответить лишь около 5% . (Не)
трудно вид[ь]ть, что в данном случае
ве[с’]ма значительная часть говорящих
(по) русски людей (не) очень хорошо
понимала, что (же) она в действительности
одобряет. Примеров подобного употребления
слов, за которым стоит либо (не) ясное
самому говорящему, либо отличное от
(обще) употр[иэ]би- тельного
значение,
несть числа
и в художественной л[и]тературе, и в
р[иэ]альной жизни.
Через
весеннюю Тверскую улицу в Москве
протянут тр[ъ]нсп[а]рант:
Масле[н’]ица
— широкая
боярыня. Все
слова понятны, понятно и то, что
Масле[н’]ица похожа на боярыню. Только
что значит широкая боярыня? Толстая,
т[ъ]роватая?
Наверное, надо (по) другому: Масле[н’]ица
широкая — боярыня, поскольку все знают,
что широкой Масле[н’]ицей называются
её по[с’л’]е[д’н’]ие, самые
разгульные,
самые вкусные, больше [фс’иэво]
похожие на боярыню, дни.
(И.
Милославский)
©>
21. Выполните задания по тексту упр. 20.
Покажите,
какие знаки препинания и при каких
условиях ставятся внутри простого
предложения.Проанализируйте
слово
Масленица
по плану:
а) фонетический
и орфоэпический разбор;
б) лексический
разбор;
в)правописание слова;
г) морфемный
разбор;
д) морфологический
разбор;
е) роль
в предложении.
Письменно
и устно просклоняйте числительные,
которые в данном тексте записаны
цифрами.Найдите
предложение, соответствующее схеме:
(или:- -)
Укажите,
словами какой части речи выражен каждый
член этого предложения.
§©
©>
22. Прочитайте текст про себя, а затем
вслух. Укажите слова, которые сейчас
пишутся иначе, чем до 1918 года:
а) в
связи с упразднением некоторых букв;
б) в
связи с изменением ряда правил орфографии.
Перепишите, соблюдая современные нормы
правописания.
Татьяна
верила преданьямъ Простонародной
старины, И снамъ, и карточнымъ гаданьямъ,
И предсказашямъ луны. Её тревожили
приматы; Таинственно ей всЬ предметы
Провозглашали что нибудь, Предчувств1я
гйснили грудь.
(А.
Пушкин)
Подчеркните
основы предложений, укажите однородные
члены.Составьте
схему 1-го предложения.Затранскрибируйте
слово
что-нибудь.
История книжного дела шпора по новому или неперечисленному предмету
1. Понятие «книга» и «книжное дело» В научной, справ., худож., лит-ре встречается множ-во опред-ий книги, но до наст. времени нет единого общепризнанного научного опр-ия. Три подхода к определению понятия: по материально-внешней форме, по содержанию и дух. сущности; по составным, учитывающим обе категории (именно ему книговеды отдают предпочтение). Cейчас существует около 300 определений. Книга — это произведение письменности или печати, имеющее любую читаемую знаковую форму (алфавитную, цифровую, нотную), зафиксированную в любом материале (камень, глина, кожа, папирус, бумага и т.д.), выполняющее одновременно ряд общественных функций (идеологич., познав., эстетич., этич. и т.д.) и адресованное реальному или абстрактному чит-лю. В эпоху социалистического общества книжное дело характеризовалось в энциклопедическом словаре как «система взаимодействующих и решающих общие задачи отраслей культуры и нар. хозяйства, связанных с созданием и изготовлением книги, ее распространением и использованием. Включает издательское дело, полиграфическую промышленность, книжную торговлю, библиотечное и библиографическое дело». В издании энциклопедического словаря Немировский приводит противоречивые мнения ведущих книговедов по составу понятия «книжное дело»: Барсук включал в состав книжного дела редакционно-издательское дело, оформление книги, библиографоведение, статистику печати, библиотечное и книготорговое дело; Динерштейн только деятельность по производству и распространению книг; Беловицкая — способ существования, т.е. процесс и преходящий промежуточный результат существования книги в обществе. 2. Возникновение и развитие письменности. Письменность – система знаков, закрепляющая язык. Древнейшие времена человеческая память была единственным средством сохранения и передачи общественного опыта, информации о событиях и людях. Если перелистать историю мировой литературы, то окажется, что все народы так или иначе прошли период «устной книги». Бессмертные поэмы «Илиада» и «Одиссея», как известно, были записаны в Афинах на свитках около 510 г. до н.э. До этого в течение веков поэмы распространялись устно. Запоминать многотысячные строки было трудно, и первобытные сказители использовали ленточки или узелки, которые помогали им. У индейцев Южной Америки такая вещь называлась квипу (кипу) — узелковое письмо (чуть позже разного рода зарубки, заметы, узелки, наконец, рисунки). Изображения в пещерах и на скалах, сделанные рукой первобытного человека, отражают его впечатления от окружающего мира, жизни, природы. Это начатки искусства, но одновременно и начатки письменности; здесь человек впервые выразил в изображении свою мысль. 3. Основные системы письма. Пиктография — рисуночное письмо (один образ, одна мысль). Этот этап прошли языки многих древнейших народов (шумеры, египтяне, китайцы, индейцы, майя), прежде чем обрели письменность. При возникновении рабовладельческого строя пиктографическая запись уже не удовлетворяла потребностям культуры. Она постепенно трансформируется в письмо идеографическое, в котором каждый знак выражал отдельные понятия, идеи либо мог развивать, разъяснять смысл других знаков. С течением времени в вавилонском, ассирийском, хеттском и других языках установилось слоговое письмо, где преобладали знаки, передающие не слово, а слог. В наше время языки культурнейших народов (китайский, японский) используют идеографическую систему письма. Существовала и иероглифическая система письма. Слово «иероглиф» означает «резьба жрецов». Упрощение знаков — «графем» — привело к созданию так называемого иератического (священнослужительского ), а затем и демотического (народного) письма, в котором число графем значительно сократилось. В Шумере, Вавилонии, Ассирии писали клинописью. Идея буквенного письма, резко демократизирующая всю письменную книжную культуру, вырывала ее из-под монопольной власти жрецов. Угаритская письменность датируется историками XIV веком до н.э. — самый ранний буквенный алфавит. На основе древнеегипетского демотического почерка, универсального в употреблении, возник древнегреческий алфавит («алеф» — «бета»), ставший родоначальником всех алфавитов мира. От племен Ханаана на Аравийский полуостров просочился универсальный арабский алфавит. Затем арамейский (финикийский) алфавит явился на просторах Монголии и Маньчжурии. В древней Индии распространение буддизма способствовало изобретению своеобразного буквенно-слогового алфавита — деванагари. Древнегреческий, этрусский, латинский языки имели уже алфавиты из 24 букв. В середине IV века н.э. Месроп Маштоц (362-440) разработал армянский алфавит, который применяется и сегодня. Византийские монахи св. Кирилл и св. Мефодий в 863 г. изобрели азбуку для славянских языков. В настоящее время народы мира употребляют 8000 алфавитов и их вариантов, приспособленных к разным языкам и диалектам. Наиболее распространенными считаются алфавиты на латинской основе (26 букв). 4. Книжное дело в Древнем мире Восстание рабов, кризис и падение рабовладельческого строя привели к оскудению центров культуры и к уничтожению массы книг. Особого расцвета достигла и арабская культура, распространившаяся от Инда до Пиренеев. Арабы дали Европе дешевый писчий материал — бумагу. Это привело к увеличению производства рукописей. В Древнем Китае было налажено изготовление бамбуковых книг. Тонко выструганные пластинки бамбука скреплялись вместе металлическими скобами в виде современной раздвижной оконной шторы. На такой книге-шторке, так же как и на изобретенном позднее шелке, китайцы рисовали свои иероглифы кисточками, используя для этого тушь. Бумагу китайцы первоначально делали также из бамбуковой массы. В странах Европы предки германцев и славян, если им случалось получить греко-римское образование, удовлетворяли свою потребность в книгах рукописями греков и римлян. Их же многочисленные соотечественники, как показывает этимология слов, обозначающих книгу («библио», «либер», «либро»), удовлетворялись записями или засечками на деревянных пластинах. Доступнейшим материалом для письма была береста. Берестяные книги наибольшее распространение получили у древних славян, а также у народов Северной Индии. Первые берестяные книги Индии датируются IX веком н.э. 5. Книги и библиотеки античности Наиболее древним материалом для книг была, вероятно, глина и ее производные (черепки, керамика). Еще шумеры и эккадяне лепили плоские кирпичики-таблички и писали на них трехгранными палочками, выдавливая клинообразные знаки. Таблички высушивались на солнце или обжигались в огне. Затем готовые таблички одного содержания укладывались в определенном порядке в деревянный ящик — получалась глиняная клинописная книга. Ее достоинствами были дешевизна, простота, доступность. В Клинописной библиотеке, учрежденной царем Ассурбанипалом (VII век до н.э.) хранилось более 20000 глиняных книг, каждая из которых имела на себе клинописный штамп: «Дворец царя царей». Тростник-папирус (Египет, Нил) дал возможность возникновения и расцвета величайшей цивилизации Древнего мира. Папирус был хрупок, поэтому папирусные ленты склеивались или сшивались в свитки, которые укладывались в специальные футляры — капсы или капсулы, получался свиток — первая известная форма книги в мировой цивилизации.Век папирусной книги окончился только в X-XI веках н.э., после мусульманского завоевания Египта. Почти все государственные и местные управления, коллегии жрецов, собрания граждан и состоятельные люди считали престижным иметь хорошую библиотеку. Библиотеки устраивались при общественных банях, где богатые рабовладельцы проводили время за чтением книг. Специально обученные рабы-чтецы, по-латыни их называли «лекторы», а по-гречески «диаконы», читали вслух всем желающим. Самым богатым книжным собранием античности была Александрийская библиотека царей Птолемеев (700000 папирусных свитков). Наряду с папирусом получил распространение и материал, сделанный из шкур молодых животных — телят, коз, овец, кроликов. Назван он был пергамен, по наименованию места, где был изобретен этот способ. Расцвет пергаменной книги начинается с наступлением христианской эры. Именно из пергамена родилась господствующая ныне универсальная форма книги — кодекс, или книжный блок. Предприниматель-рабовладелец, занимавшийся размножением и продажей рукописных книг, назывался по-гречески «библиопола» — книгораспространитель, а по-латыни «либрарий» — книжник. Античные писатели оставили нам множество свидетельств о том, что в эпоху императорского Рима можно было размножить путем многократной переписки 50-100 экземпляров произведения одновременно. В Риме насчитывалось двадцать восемь публичных библиотек. 6. Книга в эпоху средневековья. Основным писчим материалом в средневековье служил пергамен. На раннем этапе его 0 0 1 F 0 0 1 Fиногда кра сили, обычно в пурпур, писали золотом или сере бром. Манера красить пергамен перестала практиковаться лишь в XIII в. В раннем средневековье основными центрами как производства, так и потребления пергамена были монастыри, а с XIII 0 0 1 Fв. за изготовление перга мена взялись горожане- 0 0 1 Fремесленники. Они созда вали самостоятельные цехи по выделке пергамена. Но все- таки его постоянно не хватало. Вот почему широкое распространение получили так 0 0 1 Fназывае мые палимпсесты — пергамены, с которых был стерт, соскоблен 0 0 1 Fпервоначальный текст, а затем на писан новый. Инструментом для письма, как и в античности, служили калам и птичье перо — сначала в равной степени, а затем писцы перешли в основном на птичьи перья. Для разлиновки листа употреблялись острый серебряный грифель или свинцовый карандаш. В 1125 г. для этого впервые использовали графит. Первая стадия изготовления книги — выделка пергамена, Затем вторая стадия – разлиновка (использовали циркуль, линейку и грифель). И только после этого за работу брался каллиграф-переписчик. Именно в средние века возникли основные типы письма, составляющие фундамент современных латинских и готических шрифтов. Это, во- первых, каролингский минускул (строчный почерк). Оформлял книгу не сам каллиграф, 0 0 1 F 0 0 1 Fа другие спе циалисты — миниаторы, рубрикаторы, иллюмина торы. Мастерами 0 0 1 Fоформления сначала были мона хи, но с ХIII-ХIVв. все чаще этим стали заниматься художники-миряне. Заглавного или титульного листа книги не имели. Текст начинался словами: «Incipit liber» («Начинается книга») или вообще без них. Выходные данные иногда приводились в конце книги, в так называемом колофоне. . Для средних веков характерен был кодекс — книжный блок. 0 0 1 F Поряд ковые номера тетради назывались кустодами (от лат. custos — страж). Кустоды заменяли 0 0 1 Fнепрактико вавшуюся в ранней средневековой рукописной книге пагинацию — сплошную 0 0 1 Fпорядковую нумера цию страниц. В конце каждого листа было принято записывать 0 0 1 Fпервое слово следующе го листа — это назвалось рекламантом (в печатных книгах XV- XVI 0 0 1 Fвв. то, что прежде называлось ку стодой, стало называться сигнатурой, а рекламант — кустодой). Подготовленные к переплету 0 0 1 F тетради сшива лись в блок на ручном переплетном станке. К концам шнуров на верхней и нижней тетради прикрепляли переплетные крышки. 7. Изобретение книгопечатания на востоке и в Западной Европе Первое, что содействовало возникновению книгопечатания, была бумага, изобретенная в Китае и попавшая в Европу. В XII-XIII веках первые «бумажные мельницы» появляются в Испании. К началу европейского книгопечатания не менее двух третей рукописных книг изготовлялось уже на бумаге, которая была разного сорта, различного качества. С появлением бумаги связано и введение такого понятия, как филигрань, то есть «водяной знак». Самые ранние сведения о технических элементах книгопечатания содержит Фестский диск, найденный археологами на о. Крит (Греция). Он датируется II тысячелетием до н. э. Диск был изготовлен из глины, на нем помещены неизвестные нам знаки (литеры), оттиснутые или проштемпелеванные. Принцип штемпелевания был известен еще в клинописных культурах Древнего Востока (Шумер, Вавилон). Принцип печати и оттиска воплощен и в чеканке монет. Первые чеканные монеты появились в VII веке н. э. Китайские летописцы повествуют о некоем кузнеце по имени Би Шен (или Пи Шень), который еще в 1041-1048 гг. изготовлял литеры из глины. Историки высказывают мнение, что первые опыты книгопечатания могли быть в Византии и Египте. Затруднение составляет отсутствие самих книг. В Древнем Китае иероглифические знаки высекали на каменных стелах, намазывали краской, делали оттиски и эти оттиски рассылали в провинции и города. Позже появилась ксилография. Техника ксилографии была проста: на деревянной доске вырезалось изображение (текст) в зеркальном порядке, на рельеф наносилась краска, накладывался лист бумаги, прижимался и приглаживался подушечкой, а затем помещался под пресс. Первая ксилографическая книга называется «Алмазная сутра». Она была изготовлена в 868 г. В Европе ксилографическая книга появилась после Крестовых походов. Ее появлению и расцвету способствовала массовая потребность в бумажных деньгах, печатных иконах и папских индульгенциях, а также в игральных картах. Имя легендарного печатника из Гарлема (Нидерланды) Лауренс (Лаврентий) Янсзон Костер (церковный служка). Секрет печатания он узнал предположительно от армян- беженцев с Востока. Затем уже к старости по совету Иеронима вырезал подвижные буквы для своих внуков и, наконец, напечатал несколько книг. Идею книгопечатания удалось воплотить в середине XV столетия в городах Страсбурге и Майнце Иоганну Гуттенбергу. 8. Деятельность Иоганна Гуттенберга. К 1440 г. относятся первые типографские опыты Гуттенберга. Ученики и подмастерья Гутенберга разнесли весть о великом изобретении по Германии, а затем и по всей Европе. Идея набора букв (литер), как мы знаем, была известна уже у античных писателей. Пресс издревле применялся в виноделии и в производстве набивной ткани. Употреблялся он и в изготовлении ксилографии. Технология изготовления матриц и отливки шрифта Гутенбергом весьма напоминает технику зеркального производства той поры. Гутенберг соединил существовавшие до него изобретения, воплотив на практике великую идею печатания книг, и явил миру первые, причем сразу же совершенные образцы изданий. Он создал первое типографское оборудование, изобрел новый способ изготовления шрифта и сделал словолитную форму. Из твердого металла делались штампы (пунсоны), вырезанные в зеркальном изображении. Затем они вдавливались в мягкую и податливую медную пластину: получалась матрица, которая заливалась сплавом металлов. В состав сплава, разработанного Гутенбергом, входили олово, свинец, сурьма. Сущность этого способа изготовления букв состояла в том, что их можно было отливать в каком угодно количестве. Для оборудования типографии требовался уже не просто пресс, а печатный станок и наборная касса (наклонный деревянный ящик с ячейками). В них помещались литеры букв и знаков препинания. 9. Инкунабульный период европейского книгопечатания. Вторая половина XV века была временем триумфального шествия книгопечатания по Европе. Книги, изданные по 31 декабря 1500 г., принято называть инкунабулы, по-латыни — «в колыбели». Европейские книги, напечатанные с 1501 по 1550 г. включительно, обычно именуются палеотипы, то есть старинные издания. Бродячие печатники посещали монастыри, университеты, замки феодалов и жили там, удовлетворяя потребность в печатной продукции. Подсчитано, что за период инкунабул всего существовало 1099 типографий. Они, правда, быстро разорялись, и к началу XVI века в Европе осталось двести типографий. Уцелели те из них, что пользовались поддержкой богачей и знати. Первопечатные книги сохранились в крайне незначительном числе экземпляров; они совершенно сходны с рукописными книгами как в шрифте, так и вообще по своей внешности. Первопечатники во всем подражали рукописям, ибо последние ценились гораздо дороже, да и публика в первое время по привычке требовала рукописи, подозревая в печати вмешательство дьявола; на первых печатных экземплярах, выпускавшихся в виде рукописей, не отмечалось ни года, ни места напечатания, ни имени типографа. Эпоха инкунабул и палеотипов — это время совершенствования печатного мастерства. В книге появились печатные иллюстрации. Стали применять ксилографию — гравюру на дереве. Инкунабулы были сравнительно недорогими. 10. Типографы и издатели Эльзевиры Эльзевир (Elsevier или, чаще, Elzevier) — знаменитая семья голландских типографов- издателей XVI — XVII столетий. Основателем ее был Людовик Э. Он был сперва переплетчиком и изучал печатное дело. В Лейдене устроил книжную лавку. Издания его на разных языках многочисленны (до 150), но не отличаются теми достоинствами, которыми славятся издания его потомков. У него было семь сыновей-продолжателей. Первый типограф в роде Исаак; первые его работы, исполненные на средства деда, относятся к 1617 г. Получив звание присяжного типографа лейденского университета, он построил на университетском дворе типографию, которая сделалась первой в городе. Абрагам Э. произвел целую революцию в книжном деле введением формата in-12. Деятельность дома Э. была в эту эпоху чрезвычайно обширна; у него было много отделений, он был первым на знаменитых франкфуртских ярмарках и даже в Париже, благодаря изданию Корнеля и других выдающихся представителей французской литературы. Всего Э. издали более 1500 сочинений — 968 латинских, 44 греческих, 126 французских, 32 фламандских, 22 на восточных языках, 11 немецких, 10 итальянских. Их издания по точности и исправности текстов не могут соперничать с изданиями Мануциев или Этьенов, но выдаются своей своеобразной красотой и высоко ценятся любителями. 14. Выдающиеся европейские издатели XIX в. Наполеон Шэ (1807-1865) стал монополистом в области издания и распространения книг на транспорте. Старейшая немецкая фирма Котта была основана еще в 1639 году небогатым книготорговцем в г. Тюбинге. Ее представители богатели, обзаводились знакомствами в литературной среде. Издатель барон Иоганн Котта фон Коттендорф (1764-1832). «Он стоял у истоков нового буржуазного века, — писал о нем историк, — он уловил задачи развития книги в свою эпоху и был этим образцом». Фридрих Брокгауз (1772-1823) издавал справочную и энциклопедическую литературу. Его знаменитое издание — энциклопедический словарь «Конверсационс Лексикон» Брокгауз совершенно исключил из своего словаря политические и корпоративные оценки, для него все одинаково должно быть предельно описано и объяснено. Филипп Реклам (1807-1896) рассчитывал на покупателя из самой небогатой среды, учащейся молодежи, грамотных пролетариев. Особенно знаменита его дешевая серия «Всеобщая библиотека», где были представлены все важнейшие имена в немецкой и мировой литературе. Эрнест Зееманн (1829 — 1904) основал первую в Германии специализированную фирму по выпуску и продаже изобразительной продукции — репродукций картин, открыток, альбомов по искусству. Во Франции до сих пор наиболее крупным универсальным издательством считается фирма, которую основал в 1826 г. Луи Ашетт (1800 – 1864). Он выдвинулся как просветитель, издатель недорогих учебников, пособий для школы, затем проявил коммерческую хватку, вытесняя конкурентов и умело находя доходные издания. Большие тиражи всегда были особенностью этого издательства. Пьер- Жюль Этцель (1814 — 1886), детский писатель, основал издательство детской и учебной книги, отличавшееся качеством и ассортиментом своих изданий. Он первым заключил договор с Жюлем Верном об издании всех его книг. Кальман Леви (1819-1891), выходец из Германии, основал с братьями в Париже торговлю театральными изданиями. Его предприятие выросло в крупнейшее издательство научной и искусствоведческой литературы. Пьер Ларусс (1817 — 1875), составитель словарей, филолог, не найдя поддержки своим широким планам выпуска просветительной литературы, основал собственное издательство. Самое старое издательство из существующих ныне в англоязычных странах издательство «Макмиллан» было основано в 1843 г. в Лондоне, затем оно было переведено в США. 16. Книга на Руси в XI-XVI вв. Рукописных книг XI-XIII вв. до наших дней сохранилось не столь уж много. Старейшие сохранившиеся русские книги относятся к XI в. Их немногим более двух десятков (включая отрывки), большинство из них — богослужебные или религиозно- нравоучительные. Редчайший и драгоценнейший памятник древнего книгописания — знаменитое Остромирово евангелие (написана писцом дьяконом-Григорием). Другой замечательный памятник древнего русского книгописания — «Изборник Святослава» 1073 г. Его можно считать первой русской энциклопедией, охватывающей широчайший круг вопросов, причем не только богословских и церковно-канонических: в нем есть статьи по ботанике, зоологии, медицине, астрономии грамматике и поэтике. Татаро-монгольское нашествие тяжело отразилось на всей книжной образованности Древней Руси. Гибли старинные центры русской книжной культуры, падала грамотность в народе, резко сократилось число самих письменных памятников. В феодальных центрах — при княжеских дворах, монастырях и т.д. — существовали местные мастерские для переписки книг. В книжном деле того времени уже возникает разделение труда. Владельцы крупных мастерских применяли наемный труд, нанимали писцов со стороны. В конце XIV в. наряду со старыми центрами книжного дела — Новгородом и Псковом — появляются и новые: Тверь, Ростов, Суздальское княжество. Славились своими мастерскими по переписыванию книг монастыри Троице-Сергиев в Москве и Кирилло-Белозерский. По мере возвышения Московского великого княжества и образования национального, а затем многонационального русского государства появляются и растут книжные собрания в Москве. Здесь создаются первые крупные государственные архивы, обширные библиотеки, переписываются и переводятся книги. В конце XV в. в Москве возникают крупные рукописные мастерские с целым штатом писцов, переводчиков, редакторов, рисовальщиков и переплетчиков. На рубеже XIV-XV вв. русская культура и книжное дело испытали влияние славянских и греко-славянских монастырей на Афоне и в Царьграде. Это так называемое второе южнославянское влияние. Конец XIV века и весь XV век характеризуются неослабевающими связями с южными славянами и монастырскими колониями на Балканах. Изменяется репертуар богослужебной литературы, графика, материалы и орудия письма, характер оформления рукописной книги. В новых, более полных и точных переводах распространяются списки библейских книг, житийные тексты. 17. Возникновение и развитие книгопечатания в Московском государстве. Первой печатной книгой московского государства долго считался отпечатанный Иваном Федоровым и Петром «Апостол» 1564 г., в послесловии которого основание типографии в Москве отнесено и 1553 г. Хотя книгописное дело все больше распространялось и им занимался целый класс «добровольцев», изготовлявших книги для продажи, но они не могли удовлетворить все возраставшей потребности. Об этом знали и за границей: тюбингенские типографщики, предпринимая в XVI столетии печатание славянских книг, рассчитывали на сбыт в разных славянских странах, и на первый план ставили русских. С другой стороны, появление книгопечатания в Москве было вызвано необходимостью иметь исправленные книги, так как переписчики обыкновенно относились небрежно к исправности текста. Строго запрещалась продажа книг неисправленных, то есть с ошибками. Первые «мастера печатных дел» были в одно и то же время и специалистами по технике печатания и по гравированию, и редакторами изданий. Первая устроенная Иоанном Грозным типография была обставлена, судя по шрифту и чистоте печати, очень богато. Для типографии построили здание рядом с Никольским греческим монастырем, где потом находился Московский печатный двор. Во второй половине 16 в. первопечатникам пришлось были бежать из Москвы, так как народ считал их еретиками и сжег печатный двор. При Иоанне IV отпечатаны всего четыре издания. Непрерывно стали печататься в Москве церковные книги лишь с учреждением патриаршества (1589). Книги, вышедшие из московской типографии в XVII в., были почти исключительно богослужебные, полемические и священного писания. В начале XVII в. при Печатном дворе основана была Правильная палата, имевшая целью редактировать и приготовлять текст книги к печатанию. Из лиц, занимавшихся печатанием книг, 30. Издатели второй половины XIX в. Маврикий Осипович Вольф (1825-1883) открыл собственный книжный магазин, установив торговые связи с издателями Англии, Франции и Германии. Одновременно с открытием книжного магазина он приступил к изданию книг на русском языке. Книгоиздание М.В. Вольфа носило универсальный характер: выпускались научные труды, научно-популярные книги, художественная и детская литература. Адольф Федорович Маркс (1838-1904) в 1870 г. получил разрешение на издание массового еженедельного журнала «Для семейного чтения», «Нива». Тираж журнала достиг невиданной цифры — 250 тыс. экземпляров, и А.Ф. Марксу пришлось обзавестись типографией, самой крупной в то время. Увеличивая тиражи изданий, Маркс имел возможность снижать цены на книги и таким образом успешно конкурировать с другими издательствами. Козьма Терентьевич Солдатёнков (1818-1901) был крупным текстильным фабрикантом. Среди книг, выпущенных Солдатёнковым, переводная литература составляет более 60 процентов названий. Русская культура обязана К.Т. Солдатёнкову изданием переводов многих фундаментальных классических трудов, прежде всего в области гуманитарных наук. Им было издано более тридцати оригинальных трудов русских ученых Русский книгоиздатель Флорентий Федорович Павленков (1839-1900) Свое первое издание — переведенную им же небольшую книгу «Собрание формул для фотографии» Е. Бертрана, Павленков выпустил в 1863 г. в Киеве. Большой популярностью у читателей пользовались изданные Павленковым собрания сочинений А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, Г.И. Успенского, а также произведения классиков западноевропейской литературы: В. Гюго, Ч. Диккенса, книги для детей, научно- популярная литература отечественных и зарубежных авторов по физике, зоологии, астрономии, социологии. Павленков подготовил первое в России собрание сочинений А.И. Герцена. Последним изданием Павленкова, вышедшим при его жизни, был знаменитый «Энциклопедический словарь» — пособие для самообразования. Выпуская книги большими тиражами, Павленков сумел значительно удешевить книгу без ущерба для ее содержания и оформления. Расходы на административно-редакционный аппарат были минимальными за счет того, что он сам читал все предлагаемые рукописи, оценивал их качество, правил, сам читал корректуры, подбирал рисунки, вел переговоры с авторами. Лонгин Федорович Пантелеев (1840-1919). После ссылки основывает издательство в Петербурге, которое скоро занимает значительное место на книжном рынке. Пантелеев выпускал естественнонаучную литературу, в том числе издания, получившие большую известность, книги по социологии и вместе с тем проявлял интерес к гуманитарным наукам. Издательство Ольги Николаевны Поповой (1848-1907). Ее издания по общественным наукам, естествознанию, истории и истории литературы занимали заметное место среди книг того периода. Русский издатель, журналист Алексей Сергеевич Суворин (1834-1912) его издания начали выходить в 1872 г., когда он выпустил «Русский календарь». Успех этого издания побудил его издавать газету «Новое время». В 1878 г. издатель открыл в Петербурге книжный магазин, затем типографию. К началу ХХ века он издал около тысячи книг универсальной тематики. Самый крупный русский издатель Иван Дмитриевич Сытин (1851-1934) — Сытин открыл в 1876 г. маленькую литографию. Предприятие имело одну литографскую машину и выпускало лубочные картинки. Картинки для издательства рисовали известные художники В.В. Верещагин, В.М. Васнецов и др. Качество лубочных картинок Сытина было значительно выше, чем у других издателей. С 1890 г. Сытин начал выпускать календари. Издания И.Д. Сытина отличались высоким уровнем полиграфического исполнения, выходили большими тиражами, были предельно дешевы. Издательство учитывало интересы широкого круга читателей. Выпускались учебники и учебные пособия (для начальной школы), научно-популярные книги (серия «Библиотека для самообразования»), детская литература, практические руководства для крестьян и религиозная литература. В период 1910-1915 гг. Сытин выпускает несколько многотомных изданий. В 1916 г. издатель приобрел большинство паев издательства А.Ф. Маркса, в том числе популярный журнал «Нива». Издавал газету «Русское слово» (1897-1917), журналы «Вокруг света» (1891-1917), «Искры» (1901-1916), «Хирургия» (1897-1898) и др. Сытину принадлежали две самые крупные типографии в Москве, оборудованные первоклассной техникой, книжная и газетная, а также ряд книжных магазинов в различных городах. Каждая четвертая книга, выходившая в стране, печаталась в его типографиях. Издательство Петра Петровича Сойкина (1862-1938) было основано в 1885 г., когда он приобрел в рассрочку маленькую типографию. Главным делом издателя была популяризация естественнонаучных знаний. В своем иллюстрированном еженедельнике «Природа и люди», который издавался на протяжении почти 30 лет, он печатал научно- популярные очерки по астрономии, математике, физике и естествознанию. В приложении к журналу «Природа и люди» Сойкин выпустил целую библиотеку популярной естественнонаучной литературы Братья Сабашниковы специализировались на естественнонаучных изданиях. На них выросло целое поколение выдающихся русских ученых. Многие из них выпустили свои первые книги в издательстве «М. и С. Сабашниковы». Позднее профиль издательства стал в основном гуманитарным, выпускались историко- литературные серии. Высшее достижение издательства за всю его историю «Памятники мировой литературы». Всего в этой серии вышло 30 книг. Гвардии капитан В.А. Березовский понял, что русская армия нуждается в пособиях и руководствах для обучения военному делу, поэтому создает первое в России специализированное издательство по выпуску военной литературы. После отмены крепостного права П.И. Юргенсон и В.В. Бессель открывают нотные издательства, полагая, что общественный подъем, охвативший все слои русского общества, приведет к расцвету культуры и искусства, в том числе и музыкального. Центральное место в деятельности Риккера в 1870 г. занимало издание книг, так как в то время Россия нуждалась в оригинальных исследованиях по различным отраслям науки, в том числе и по медицине. Риккер стремился выпускать главным образом капитальные монографические труды по различным отраслям медицины. Издательство Ильина выполняло заказы по изготовлению военно-топографических и географических карт практически от всех государственных и частных предпринимателей; выпускало атласы России и частей света, глобусы, труды Русского географического общества, учебники по географии, книги о путешествиях, серию исторических романов. В начале 60-х годов XIX века стали действовать первые нелегальные типографии в которых печатались прокламации, запрещенные в России сочинения А.И. Герцена, Н.П. Огарева и др. Под руководством революционера-народника Ипполита Никитича Мышкина (1848-1885) была организована типография с целью подпольного печатания революционной литературы. Официально она печатала сначала каталоги и брошюры по уголовным делам 35. Основные направления книжного дела в России в конце XIX—начале XX в. Значительно возрос в начале XX в. удельный вес печатной продукции, выпускаемой провинциальными городами России. Наиболее крупными центрами провинциального книгопечатания в начале XX в. были Казань, Саратов, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Томск. В 1913 г. накануне империалистической войны в России было издано 34007 книг общим тиражом 118836713 экз. На первом месте — учебники, календари, народные издания и беллетристика. Научная и специальная литература, книги по философии, политической экономии, медицине печатаются крайне ограниченными тиражами. Успехи русской социал-демократии в конце 90-х — начале 900-х гг., вызванные ростом рабочего движения, общий политический подъем в стране в связи с первой русской революцией вызвал огромный спрос на политическую (преимущественно брошюрную) литературу. Значительный размах в период революции приняло издание произведений В.И. Ленина. Разразившаяся летом 1914 г. война привела к сокращению деятельности издательств. В годы войны буржуазные издательства наводнили книжный рынок разнузданно шовинистической, ура-патриотической литературой. Общественный подъем в стране, вызванный низложением самодержавия, повысил интерес к марксистской литературе. Между февралем и октябрем вышло более 20 произведений Маркса и Энгельса. 36. Крупнейшие книгоиздатели конца XIX – начале XX века Самым мощным в стране объединением в области книгоиздания, печатного дела и книжной торговли было товарищество Сытина. В начале XX в. к нему были присоединены типография А.В. Васильева и литография М.Г. Соловьева. В 1913 г. одно из крупнейших лубочных «народных» издательств Москвы «Торговый дом Е.И. Коноваловой» также перешло к товариществу Сытина. Накануне войны 1914 г. к товариществу Сытина была присоединена типография Кудинова, а в годы войны оно приобрело большую часть паев товарищества книгоиздательского и печатного дела А.Ф. Маркса. Сытин выпускал примерно у столько же книг, сколько восемь крупнейших петербургских фирм вместе взятых. Ему принадлежало около 50% лубочной продукции страны. В конце 80-х гг. XIX в. было основано немецко-русское акционерное издательство «Ф.А. Брокгауз и И.А. Ефрон» (энциклопедическая ли-тра). В 1896 г. Н.С. Цетлин совместно с германской фирмой Мейера организовал книгоиздательское акционерное товарищество «Просвещение». Наиболее интересные его издания — многотомный энциклопедический словарь и дешевая серия «Всемирная библиотека» — собрания сочинений выдающихся русских и иностранных писателей- классиков. В 1910 г. в Москве возникло издательство «Мусагет». Основателем и редактором издательства был Э.К. Метнер. Издательство выпускало произведения символистов. На более широкие круги читателей было рассчитано издательство «Шиповник». Его владельцами были С.Ю. Копельман и художник З.И. Гржебин, занимавшийся с 1906 г. издательской деятельностью. Настроенные оппозиционно, на первых порах издатели выпускали историко-революционные сборники, серии открыток на острые социально- политические темы. С 1907 г. издательство стало выпускать альманах «Шиповник Одним из крупнейших русских издательств конца XIX — начала XX в. было издательство Петра Петровича Сойкина (1862- 1938). Научный характер в сочетании с литературными достоинствами. и доступной ценой — вот основные качества изданий Сойкина. К прогрессивным просветительным издательствам конца XIX — начала XX в. относится фирма братьев М. и С. Сабашниковых. Начали они в 1891 г. с издания книг по естествознанию, затем выпускали исторические, историко-литературные труды и учебники. Прославила фирму серия «Памятники мировой литературы». В 1893 г. выступила на издательском поприще писательница и общественная деятельница Ольга Николаевна Попова (1848-1907). Она выпускала лишь ту литературу, которая способствовала развитию общественного сознания в духе передовых современных идей и понятий и на подлинно научной основе. Это прежде всего книги по общественным наукам, истории, праву, философии, педагогике, истории литературы и публицистике. Попова выпустила немало естественнонаучных книг, много книг для юношества и ряд народных изданий Александра Михайловна Калмыкова (1848-1926) основала в 1890 г. в Петербурге книжный склад и издательство для народных библиотек. Мария Ивановна Водовозова (1869-1954) для пропаганды марксизма и борьбы с народническими теориями вместе с мужем, видным экономистом Н.В. Водовозовым, основывает в 1895 г. издательство. Оно выпустило немногим более 20 книг — произведения первых русских марксистов, книги, раскрывающие положение рабочего класса на Западе, работы по политической экономии, истории народного хозяйства, истории древнего мира. В Петербурге в 1901 г. возникло издательство Марии Александровны Малых (1879-1967). Марксистскую литературу М. Малых издавала в серии «Современная научно-образовательная библиотека» (60 назв.). С 1905 г. а смену этой серии приходят серии «Пролетариат», «Научное миросозерцание» и т.д. М.А. Малых издает много «идейной беллетристики». В 1909 г., спасаясь от судебной расправы, М.А. Малых эмигрировала в Швейцарию. Ее книжный склад и типография были конфискованы. В дальнейшем она также занималась литературно-издательской деятельностью. К группе либеральных издателей-меценатов, поддерживавших революционные издательские начинания и выпускавших марксистскую книгу, принадлежит известный на юге России мукомольный фабрикант Н.Е. Парамонов , основавший в 1903 г. в Ростове- на-Дону издательство «Донская речь». Одним из наиболее значительных прогрессивных издательств конца 90-х — начала 900-х гг. было издательство «Знание» (паевое товарищество писателей — ставило своей целью оградить авторов от эксплуатации издателей). Издательство «Парус» выпускало у книги отдельных русских и иностранных авторов. Выходили книги для детей, преследующие цели нравственного, эстетического и гражданского воспитания. 37. Книжное дело в Советской России в 1917-1921гг. Издание общественно-политических книг Сосредоточение в руках государства основных издательских средств, образование Госиздата и системы советских государственных и кооперативных издательств способствовало улучшению тематики и повышению качества книг. Первыми советскими изданиями были и ленинские Декреты о мире, о земле. Издательства выпускали речи вождей революции, листовки, литературу для армии, боевые плакаты, брошюры по кооперации, антирелигиозную литературу. Издание технических и естественнонаучных книг Политика партии была направлена на поднятие технического уровня республики до уровня развитых капиталистических стран как необходимое условие для построения социализма. Издание художественной литературы Художественной литературе В.И. Ленин отводил большую роль в идейном воспитании трудящихся. В период гражданской войны ее выпускали почти все издательства. Было начато выявление литературного наследства писателей, установление правильных текстов, освобождение произведений от цензурных и редакторских искажений Издание детских и юношеских книг Несмотря на трудности военного времени молодое Советское государство заботилось об издании книг для детей. В первые годы Советской власти получили распространение серии, предназначенные для школы и семьи. Так, книгоиздательство писателей в Москве выпускало серию «Народно-школьная библиотека», издательство «Юная Россия» — серию «Библиотека для семьи и школы», Госиздат — серию «Библиотека детского чтения». Издание книг на языках народов СССР К организации национальной печати уже в годы гражданской войны приступил Народный Комиссариат по делам национальностей. При нем были созданы Отдел печати и Отдел издательств. Свои отделы по просвещению и печати имел армянский, белорусский, еврейский, латышский, литовский, мусульманский, польский, эстонский и другие национальные комиссариаты. 38. Книжное дело в СССР в 1921-1930 гг. Организация издания книг на языках народов СССР В целях содействия общественно-политическому и культурному развитию трудящихся всех национальностей Советского Союза решено было создать при Центральном Исполнительном Комитете СССР единое Центральное издательство народов Союза ССР (Центроиздат). Центроиздат был создан 13 июня 1924 г. при ЦИК СССР путем слияния Восточного и Западного издательств. На него возлагалась задача издавать периодическую и непериодическую общественно-политическую, научную и учебную литературу на национальных языках. Издание общественно-политических книг Расширение и углубление пропаганды марксизма-ленинизма требовало упорядочения и улучшения издания произведений основоположников марксизма-ленинизма. Создаются два научных центра по собиранию, изучению и публикации произведений классиков марксизма-ленинизма — Институт Маркса и Энгельса (1921) и Институт В.И. Ленина (1923). Издание технических и естественнонаучных книг В январе 1923 г. Издательский отдел ВСНХ был преобразован в Государственное издательство технической литературы. Гостехиздат работал очень оперативно, откликаясь на все задачи, возникавшие в области развития промышленности. Он выпускал книги и журналы по технической политике партии и государства, по электрификации страны, по индустриализации в целом и развитию отдельных отраслей тяжелой промышленности. В его изданиях отражены важные задачи того времени — режим экономии, использование дешевых видов топлива, снабжение промышленности сырьем. Издание энциклопедий и справочников Старые энциклопедии тенденциозно, с буржуазной точки зрения трактовали исторические, философские, политические и эстетические вопросы, во многом устарели по фактическому материалу. Необходимы были новые советские энциклопедии, основанные на марксистско-ленинской методологии, партийные, широко освещающие современность. В 1925 г. Центральный Исполнительный Комитет СССР принял решение о выпуске многотомного энциклопедического справочника — Большой Советской Энциклопедии. Издание сельскохозяйственных книг В связи с исключительным вниманием партии и правительства к работе в деревне в 1922 г. создаётся издательство «Новая деревня» из прежнего издательства Наркомзема. Основная серия «Сельская библиотека» была рассчитана на только что научившихся читать крестьян и имела целью поднять культуру земледелия. Издание художественной литературы Улучшению издания художественной литературы способствовало постановление ЦК РКП (б) о политике партии в области художественной литературы, принятое 18 июня 1925 г. Наряду с «Дешевой библиотекой классиков» широкую известность приобрели серии «Универсальная библиотека» (произведения советских и зарубежных авторов), «Русские и мировые классики», «Библиотечка Демьяна Бедного». Среди книг для крестьянства, выпускаемых Госиздатом, более 40% занимала художественная литература. 39. Книжное дело в СССР в 1930-1964 гг. В 30-е годы доминирующее положение по объему выпуска занимало издание общественно-политической и социально-экономической литературы. К концу десятилетия на ее долю приходился 41 процент тиража всех изданных в СССР книг и почти столько же по количеству названий. Огромными тиражами публиковались произведения классиков марксизма-ленинизма, а также книги, посвященные их популяризации и интерпретации. Во второй половине 30-х годов увеличился выпуск исторических трудов. Этому способствовало принятие постановления ЦК ВКП(б) и СНК СССР «О преподавании гражданской истории в школах СССР» (1934). Большую роль в издании научно-технической литературы сыграло решение ЦК ВКП(б) «О постановке производственно-технической пропаганды» (1931). Сразу же заметно активизировался выпуск учебников и монографий, освещающих новейшие достижения науки и техники, стали выходить массовые брошюры, технические плакаты и листовки. В огромных масштабах выпускалась литература, посвященная стахановским методам работы. За 1935-1937 гг. вышло 2960 названий книг по стахановскому движению общим тиражом 41 млн. экз. Выпуск учебной литературы резко возрос с введением в 30-е годы всеобщего начального, а затем и семилетнего обучения. Издавались сотни миллионов экземпляров учебников За годы Великой Отечественной войны книжному делу был нанесен значительный урон. Если в 1940 г. в стране было выпущено 46 тыс. названий книг тиражом 462 млн. экз., то в 1945 г. всего 18 тыс. названий тиражом 298 млн. экз. Пострадали издательские, полиграфические и книготорговые предприятия, часть из которых была разрушена, а другие пришли в упадок из-за недостатка финансовых средств, оборудования, кадров и т.д. Организационные основы советской издательской системы претерпели значительные изменения. Существовавший еще до войны ОГИЗ объединял далеко не все издательства и только ведущие полиграфические предприятия Москвы и Ленинграда. В 1946 г. ОГИЗ стал союзным учреждением, а в 1949 г. был преобразован в Главное управление по делам полиграфии, издательств и книжной торговли, на которое было возложено руководство отраслью независимо от ведомственной подчиненности предприятий. Дальнейшая централизации управления народным хозяйством привела к тому, что Главполиграфиздат в 1953 г. вошел в состав Министерства культуры СССР. К середине 1950-х годов полиграфическая промышленность (без ведомственных типографий) насчитывала 4573 предприятия, в том числе 4282 районных и городских, 155 областных и краевых, 117 республиканских и 19 союзных. Наряду с увеличением количества типографий увеличивались мощности действовавших. Во второй половине 1950-х годов вступают в строй мощные по тем временам полиграфические комбинаты в Калинине, Ярославле, Саратове, Минске, Ташкенте, фабрика красочной печати в Киеве, что позволило увеличить полиграфические мощности к 1960 г. в сравнении с 1955 г.: по книжно-журнальной печати — с 14 до 18 млрд. листов-оттисков, по печати красочно-изобразительной продукции с 4 до 12 млрд. краскопрогонов. Новая волна увеличения количества названий началась после смерти Сталина. В 1954 г. рост составил 22 процента и продолжался далее вплоть до 1962 г., когда вышло более 79 тысяч названий. За десятилетие с 1950 по 1960 г. произошло увеличение числа названий на 77 процентов, общего тиража — на 51 процент, общего объема (листажа) книжной продукции — на 37 процентов. 40. Становление централизованной системы книгоиздания в СССР За годы Советской власти была создана разветвленная система издательств различного типа. Проблемы типизации издательств находились постоянно в центре внимания партийных и советских органов, на каждом этапе развития советского книжного дела регулирующих процессы книгоиздания и книгораспространения. Для истории книжного дела в СССР характерно сочетание принципов централизации и децентрализации, представляющих диалектическое единство процесса совершенствования форм и методов организации и руководства всем книжным делом в стране. Наряду с крупными отраслевыми, типизированными издательствами в СССР на различных этапах существовали объединения универсального типа — Госиздат, ОГИЗ, ОНТИ, выполнявшие одновременно и функции руководящих органов. В целях дальнейшего совершенствования и улучшения руководства с учетом требований момента создавались более совершенные органы управления — Главполиграфиздат, Главиздат, Госкомиздат. Сочетание принципов централизации и децентрализации позволяет более гибко и своевременно решать задачи книжного дела, улучшать выпуск книг, их содержание, оформление, увеличивать тиражи изданий, повышать их качество. 41. Книжное дело в период ВОВ Общее состояние книгоиздательского дела Советские издательства, как и все народное хозяйство страны, оказались в тяжелом положении. Большая часть издательств в западных и юго-западных областях СССР, захваченных немецко-фашистскими оккупантами, прекратила свое существование. Основная часть издательских работников, авторских кадров ушла в армию. Работа издательств была перестроена на военный лад. Задача состояла в том, чтобы при резком сокращении материальных ресурсов, при значительно меньшем числе работников обеспечить книгой, брошюрой, листовкой, плакатом Советскую Армию и Флот, героических тружеников тыла. Под руководством и при неустанной заботе партии и Советского правительства издательства продолжали в тяжелых условиях снабжать фронт и тыл необходимой литературой. Издание общественно-политических книг Политическая литература стояла на первом месте в книжной продукции военных лет. Она сыграла выдающуюся роль в сплочении трудящихся вокруг партии и правительства для отпора врагу, в укреплении дружбы народов Советского Союза, морально- политического единства народа. Издание военных и военно-технических книг Основную массу военной книги выпускало Государственное военное издательство. Для командного состава издавались книги по стратегии и тактике, снабжению армии, взаимодействию войск различных типов, подготовке военных кадров и др. Для рядового состава армии издавались практические руководства по ведению боевых операций и пр. Издание технических и естественнонаучных книг Главное внимание издательства уделяли производственно-технической литературе, выпуску брошюр для новых кадров промышленности, заменивших у станков ушедших на фронт квалифицированных рабочих. Издание художественной литературы Основную массу изданий художественной литературы в период войны составляли произведения советских писателей — романы, повести, рассказы, очерки, стихи. Особенно популярен в это время очерк, рисующий образ советского воина — носителя самых передовых идей, эпизоды героической борьбы советского народа с фашизмом, жизнь и борьбу партизанских отрядов, повествующий о беззаветной храбрости людей, действовавших в тылу врага по заданию партии. 42. Реформа книжного дела в 1964 году 43. Состояние книжного дела в 1964-1990-е годы В рассматриваемый период было проведено несколько крупных исследований потребителей книжной продукции. Были выделены и охарактеризованы группы читателей. Активные читатели, основную массу которых составляла интеллигенция, в наибольшей степени страдали от дефицита книг. Активизация социальной жизни во второй половине 1980-х годов пробудила интерес к истории страны, политике и перевела определенные слои пассивных читателей в активные. По некоторым сведениям не читали книги 4 процента населения, 10 процентов читали очень редко, 10 — не имели домашних библиотек, 30 — не посещали книжных магазинов. В 1960-е годы были изданы произведения, которые по-новому раскрывали исторические события, отражали некоторые отрицательные стороны жизни страны. Вскоре после смерти Сталина читатели получили издания произведений А. Ахматовой, М. Зощенко, И. Бабеля и др. К концу 1960-х годов период переосмысления ценностей, исканий, романтики заканчивается. Характерной чертой культуры 1970-х годов было повышение спроса на произведения привычного круга авторов. В течение десяти лет, предшествовавших «перестройке», социологи чтения фиксировали из года в год практически один и тот же набор наиболее читаемых авторов: Ф. Абрамов, Ю. Бондарев, М. Булгаков, В. Белов, В. Быков, А. Иванов, В. Пикуль, В. Распутин, Ю. Трифонов, В. Шукшин. Демократизация жизни общества в конце 1980-х годов сделала возможным издание произведений авторов, ранее неугодных властям. Исследования чтения, проведенные в 1988-1990 гг., отразили иной состав наиболее популярных авторов: А. Бек, В. Гроссман, Ю. Домбровский, В. Дудинцев, А. Платонов, А. Рыбаков, А. Солженицын и др. Большой интерес вызывали исторические работы, в которых по-иному оценивался пройденный страной путь. В 1987 г. впервые в советской издательской практике был проведен эксперимент по формированию издательского репертуара в прямом соответствии со спросом. Крупнейший издательский проект — выпуск 200-томной «Библиотеки всемирной литературы» (издательство «Художественная литература» в 1967-1977 гг.). В 1973 г. по решению Госкомиздата СССР для пополнения фондов массовых библиотек начался выпуск «Библиотечной серии», книги которой предназначались для реализации только библиотекам. С целью получения сырья для производства бумаги был задуман и реализован эксперимент по продаже дефицитных изданий на талоны, свидетельствовавшие о сдаче определенного количества макулатуры, из которой должна была производиться бумага. Взлет популярности переживала во второй половине 1980-х годов публицистика. Издание учебной литературы всегда находилось под пристальным вниманием партийно- правительственных органов. За годы советской власти страна достигла больших успехов в образовании граждан. С конца 1970-х годов началось сокращение количества научно- технических изданий, что снизило обеспеченность специалистов информацией. Считалось, что до 1982 г. СССР занимал первое место в мире по выпуску переводных изданий, однако большинство переводов было с языков народов СССР и социалистических стран. Развивается искусство оформления издательской продукции, растет выпуск книг с иллюстрациями. Современная электронная техника внедрялась в издательские процессы недостаточно быстро. В 1980-е годы некоторые издательства начали применять автоматизированные системы переработки текстовой информации с использованием компьютерной техники. В 1960-1970-е годы основными направлениями развития полиграфии стали офсетный способ печати, фотонабор, автоматические поточные линии. Отрасль нуждалась в свободном предпринимательстве, в освобождении от идеологического и экономического диктата со стороны государственных органов. 44. Книжная торговля в России в 1990-е гг. В первой половине 1990-х годов отечественное книжное дело пережило коренные изменения. На смену идеологическому диктату, государственному монополизму, командно-административной системе управления пришла свобода предпринимательства, конкуренция. Развитие рыночных отношений стимулирует предпринимателей к поиску новых форм и методов работы на книжном рынке, совершенствованию изучения спроса покупателей книг и тщательному учету его в деятельности предприятий. Вместе с тем в книжном деле возникают и обостряются новые проблемы, вызванные сложностями перехода к рыночной экономике: сокращается выпуск книжной продукции, наблюдаются диспропорции в тематическом составе ассортимента книг, растут цены, что с учетом снижения доходов основной массы населения приводит к сокращению круга покупателей. Плюсы и минусы существования книги в условиях рыночной экономики еще предстоит понять. Бесспорным является лишь тот факт, что на пороге ХХI века книга продолжает занимать важное место в жизни человека и общества. Перспективой развития оптовой книжной торговли в нашей стране является образование мощных концернов. В этом направлении идет процесс создания крупных оптовых предприятий при ведущих издательствах («Терра», «Дрофа» и др.) и межиздательских оптовых структур. Однако этот процесс еще не начал оказывать определяющего влияния на положение оптовой книжной торговли. Неудовлетворительное состояние оптового звена является одной из основных причин того, что до 50 процентов всех книг государственных издательств и до 70 процентов негосударственных продаются в центральном регионе. Такая концентрация способствовала насыщению и усилению конкуренции на книжном рынке центрального региона и снижению книгообеспеченности периферии.
Entries tagged with птичка напела
Новинки!!!
Начнем с праздничных зимних новинок!
Уже можно купить волшебную сказку Дж. Р. Р. Толкина «Письма рождественского деда» с авторскими иллюстрациями от АСТ! Это настоящий подарок! Сказку Толкин рассказывал своим детям на протяжении более двадцати лет (первое письмо написано старшему сыну в 1920 году и последнее — дочери в 1943). Письма приходили на Рождество, и дети отвечали на них. Рождественский Дед описывал свой дом, друзей и помощников, события, забавные, а порой тревожные, которые случались на Северном полюсе. Интересно, как обыграли почерк. В 2003 был просто набран курсивом http://samlib.ru/t/taskaewa_s_j/fatherc
В издательстве Машины творения вышла очередная книжка-картинка Джулии Дональдсон и Акселя Шеффлера — «Человеткин» с Рождественской сказкой в стихах:И переиздана «Хочу к маме» этой же парочки, так что кто не успел на прошлый тираж, пожалуйста:
В Амфоре в новой серии «Библиотека младшего школьника» вышла поэма Николая Некрасова «Мороз, Красный нос»:
Наконец-то в продаже шквал новинок от издательства Самокат!
Вышли «Истории Городка» — маленькие книжки форматом 15 на 15 см с короткими двустишиями об отдельных героях полюбившегося всем «Городка» Ротраут Сузанны Бернер. Про попугая и котов мы себе точно берем.
Еще одна книга без слов от молодых польских авторов-иллюстраторов Александры и Даниэля Мизелиньских — «Город Гляделкин 3000». Если серия «Городок» рассчитана на малышей, то «Город» — для подготовленных «глядельщиков» с 5-6 лет — вот пара разворотов из книги. Будет и продолжение — о Средневековье и настоящем времени в Городе Гляделкине.Уже в продаже первые три книги из 17 серии «Сказки Роальда Даля» с иллюстрациями Квентина Блэйка!
А также переиздание Зденека Слабого «Три банана, или Петр на сказочной планете», с рисунками Антокольской о приключениях обычного школьника в Мире сказок и опасном путешествии за заветными тремя бананами. Посмотреть издание 1966 года можно тут: http://kid-book-museum.livejournal.com/1
Вышла повесть «Глиняный конверт» советского историка Ревекки Рубинштейн с иллюстрациями и творческими заданиями на тему истории древней Вавилонии от издательства Нигма.( Заглянуть… )Рипол выпустил книгу Розмари Уэллс «На синей комете» в переводе Ольги Варшавер с иллюстрациями Баграма Ибатуллина (того самого, который рисовал иллюстрации к книге «Удивительное путешествие кролика Эдварда» Кейт ДиКамилло) для среднего школьного возраста.
( Заглянуть… )Росмэн издал «Буратино» с полным текстом сказки А. Толстого и самыми лучшими на свете иллюстрациями Леонида Владимирского! В книгу вошел и вариант Буратино для малышей, тоже с рисунками Владимирского. Неужели у нас наконец-то появился настоящий замечательный Бу-ра-ти-но? Ура!
И русскую народную сказку «Василиса Прекрасная» в обработке А.Афанасьева с иллюстрациями Екатерины Костиной.АСТ Corpus выпустили путеводитель по периодической системе — «Элементы» Теодора Грэя. Очень советую эту шикарную книгу всем любителям химии, для интересного чтения и укрепления чувств, и всем не любителям, для зарождения любви. Полистать английское издание можно тут: http://www.youtube.com/watch?feature=pla
Серия книжек-картинок про 5-летнюю девочку Риту и ее собачку Бублика Жана-Филиппа Арру-Виньо тоже вышла в АСТ и подходит для младших дошкольников. Иллюстратор Оливье Таллек, которого мы помним по книге «Надо бы» от КомпасГида. Рисунки в серии двухцветные:
У автора трилогии «Поступь хаоса» Патрика Несса вышла новая книжка для подростков — «Голос монстра» с очень страшными черно-белыми иллюстрациями. Еще не читала, но крайне любопытно. Посмотреть можно тут: http://kidpix.livejournal.com/1705354.html
Скоро выйдут три книги А.С.Пушкина с иллюстрациями Евгения Антоненкова — «Сказка о Золотом петушке», «Сказка о Мертвой царевне…» и «Сказка о царе Салтане».
( Заглянуть… )
В Поляндрии готовят познавательное чтение для будущих строителей и архитекторов — книгу «Когда я вырасту, я буду строить дома» Анастасии Корзоватых с иллюстрациями Никиты Андреева. Подойдет для среднего школьного возраста. В АСТ переиздают почти детективную историю Людмилы Улицкой «История про кота Игнасия, трубочиста Федю и Одинокую Мышь». Карьера Пресс выпустит на русском известную книжку о стройке для самых маленьких «Стройка, баюшки баю» Шерри Даски Ринкер с иоллюстрациями Тома Лихтенхелда. Скоро в продаже «Новые письма насекомых» Ольги Кувыкиной от ИДМ. А издательство Фордевинд продолжает серию «Карамельки» книгой со стихами Алексея Ерошина и акварельными иллюстрациями Кати Бауман. У Эксмо в не слишком любимой мной серии «Книги — мои друзья» выйдет повесть Святослава Сахарнова «Солнечный мальчик» с замечательными цветными рисунками Николая Устинова.
( Заглянуть… )
Издательство «Априори-Пресс» выпускает книгу историка и переводчицы Натальи Ермильченко об Александре Сергеевиче Пушкине с юмористическими иллюстрациями Ольги Муратовой.
( Заглянуть… )
Нигма готовит к выходу второй том трехтомника сказок народов Азии с иллюстрациями Николая Кочергина — «Сказки Китая».
( Заглянуть… )
Петр Симон Паллас. Наблюдения во время путешествия по югу России в 1793-94 годах. 1999. EBook 2009
%PDF-1.6
%
615 0 obj
/M(D:20090806083327+02’00’)/Name(ARE Acrobat Product v8.0 P23 0002337)/ByteRange[0 102 9636 4772930 ] /Reference[>/Data 615 0 R/TransformMethod/UR3/Type/SigRef>>]/Prop_Build>/App>/PubSec>>>/Type/Sig>>>>/Metadata 629 0 R/AcroForm 616 0 R/Pages 607 0 R/Type/Catalog/PageLabels 603 0 R>>
endobj
629 0 obj
>stream
application/pdf
2009-08-06T08:33:27+02:002009-08-06T08:33:24+02:002009-08-06T08:33:27+02:00uuid:b3ce85ab-3126-1141-80e6-b87b8e97ade1uuid:65776fa9-dd58-7d4a-b8b1-1d673bb35572
endstream
endobj
616 0 obj
>/Encoding>>>/SigFlags 2>>
endobj
607 0 obj
>
endobj
603 0 obj
>
endobj
604 0 obj
>
endobj
605 0 obj
>
endobj
606 0 obj
>
endobj
608 0 obj
>
endobj
609 0 obj
>
endobj
610 0 obj
>
endobj
611 0 obj
>
endobj
59 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
61 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
63 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
65 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
67 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
69 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
71 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
73 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
75 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
77 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
79 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
81 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
83 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
85 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
87 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
89 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
91 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
93 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
95 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
97 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
99 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
101 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
103 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
105 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
107 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
109 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
111 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
113 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
115 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
117 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
119 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
121 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
123 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
125 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
127 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
129 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
131 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
133 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
135 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
137 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
139 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
141 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
143 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
145 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
147 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
149 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
151 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
153 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
155 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
157 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
159 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
161 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
163 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
165 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
167 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
169 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
171 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
173 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
175 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
177 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
179 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
181 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
183 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
185 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
187 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
189 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
191 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
193 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
195 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
197 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
199 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
201 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
203 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
205 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
207 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
209 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
211 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
213 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
215 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
217 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
219 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
221 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
223 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
225 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
227 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
229 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
231 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
233 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
235 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
237 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
239 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
241 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
243 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
245 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
247 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
249 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
251 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
253 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
255 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
257 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
259 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
261 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
263 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
265 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
267 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
269 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
271 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
273 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
275 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
277 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
279 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
281 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
283 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
285 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
287 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
289 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
291 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
293 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
295 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
297 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
299 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
301 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
303 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
305 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
307 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
309 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
311 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
313 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
315 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
317 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
319 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
321 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
323 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
325 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
327 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
329 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
331 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
333 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
335 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
337 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
339 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
341 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
343 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
345 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
347 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
349 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
351 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
353 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
355 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
357 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
359 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
361 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
363 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
365 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
367 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
369 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
371 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
373 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
375 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
377 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
379 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
381 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
383 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
385 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
387 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
389 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
391 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
393 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
395 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
397 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
399 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
401 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
403 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
405 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
407 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
409 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
411 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
413 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
415 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
417 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
419 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
421 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
423 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
425 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
427 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
429 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
431 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
433 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
435 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
437 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
439 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
441 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
443 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
445 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
447 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
449 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
451 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
453 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
455 0 obj
>/Font>/ProcSet[/PDF/Text/ImageB]>>/Type/Page>>
endobj
458 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
460 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
462 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
464 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
466 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
468 0 obj
>/Font>/ProcSet[/PDF/Text/ImageB]>>/Type/Page>>
endobj
471 0 obj
>/Font>/ProcSet[/PDF/Text/ImageB]>>/Type/Page>>
endobj
475 0 obj
>/Font>/ProcSet[/PDF/Text/ImageB]>>/Type/Page>>
endobj
479 0 obj
>/Font>/ProcSet[/PDF/Text/ImageB]>>/Type/Page>>
endobj
483 0 obj
>/Font>/ProcSet[/PDF/Text/ImageB]>>/Type/Page>>
endobj
487 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
489 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
491 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
493 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
495 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
497 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
499 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
501 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
503 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
505 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
507 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
509 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
511 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
513 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
515 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
517 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
519 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
521 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
523 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
525 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
527 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
529 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
531 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
533 0 obj
>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Type/Page>>
endobj
534 0 obj
>stream
HW$5Wtmƒ,?*`»» %G%?3wN[^o߽gwt~{0_Dv9#2×3?S$y7|=$ON|_i~_=Q:NR
RDv=Bwk~+@98Tr/B{E8(gs
7JOFKs’j>:&8NG=̑ƢX\1?
EW/zJCs!R?
=ˈ RVtvcB$$%HO!`’BvѼiyO 5JP0IYE9]arNq/k]l@u5,zc#1;QfY^-G7VCLdB([D\@M]hVGB*t4V墄S)&v_`*
H֠f*ݱ/=1F܌C];{n{kР .?»{S*/koēvj{A
общеупотребительных терминов — Bookjobs.com
Редакционная
Агент : профессионал книжной индустрии, который представляет авторов и иллюстраторов, помогает им размещать свои работы с издателями, собирает их платежи и выполняет другие обязанности от их имени.
Получение редактора : Редактор, покупающий конкретную книгу. Затем приобретающий редактор передает рукопись редактору разработки, если только получающий редактор и редактор разработки не являются одним и тем же лицом, что часто имеет место.
Предложение книги : Описание предлагаемой книги, которую автор отправляет издателю, часто включая образцы глав и план.
Критика : Оценка рукописи, затрагивающая такие вопросы, как структура, а также характер и развитие сюжета.
Редактор разработки : Редактор, который выполняет основательное редактирование книги, уделяя особое внимание общему стилю, ритму, сюжету и структуре. Редактор разработки работает с автором над доработками.
Черновик : Рукопись книги на определенном этапе. За первым наброском следуют черновики, которые представляют собой неотшлифованные версии. Окончательный вариант отправляется на допечатную подготовку.
Редакционная коллегия / Издательский комитет : Группа в издательстве, которая одобряет приобретение книги, то есть приобретение авторской работы для публикации. Редакционные коллегии обычно состоят из редактора по закупкам, а также представителей отделов продаж, маркетинга и финансов.
Errata : Отдельный лист с описанием ошибок, обнаруженных в печатной книге.
Построчное редактирование / копирование : Построчное редактирование рукописи с упором на стиль, пунктуацию, орфографию, грамматику, последовательность, ясность, последовательность и ошибки содержания.
Рукопись : письменный материал автора до его набора и печати. MS и MSS — это сокращенные обозначения «рукописи» или «рукописей».
Корректура : Окончательная проверка рукописи, обычно направленная на исправление любых типографских ошибок перед набором рукописи.
Письмо с запросом : письмо от автора или агента редактору, в котором кратко описывается рукопись и спрашивается, заинтересован ли редактор в оценке рукописи.
Плата за чтение : Плата, взимаемая некоторыми агентами за оценку рукописи потенциального клиента. Ассоциация представителей авторов, крупная торговая ассоциация книжных агентов, запрещает своим членам взимать плату за чтение.
Редакции : Изменения, иногда обширные, в оригинальной работе.
Slush Pile : Рукописи поступают в издательства, но не запрашиваются или не поступают через агентов. Некоторые издатели не рассматривают незапрошенные рукописи, в то время как другие рецензируют их.
Представления : Рукописи, отправленные автором или агентом издателю на рассмотрение.
>> к началу
Юридическая информация, финансы, права и разрешения
Аванс : Выплата аванса в счет гонорара издателем автору или иллюстратору, когда издатель приобретает книгу автора.Аванс часто выплачивается двумя частями: половина при подписании контракта и половина при доставке или официальном принятии рукописи издателем. Аванс взимается из роялти и должен «заработать» (т. Е. Начисленные роялти должны быть равны размеру аванса) до выплаты каких-либо роялти.
Шаблон : Стандартный контракт издателя, предлагаемый автору и используемый в качестве отправной точки для обсуждения окончательных условий.
Контракт / Соглашение о публикации : Юридический документ, детализирующий согласие автора или иллюстратора продать издателю некоторые или все права на творческую работу.В контрактах указывается, какие права по авторскому праву предоставляются, соответствующие обязательства автора и издателя по соглашению, компенсация автору и другие положения. Соглашения могут содержать много текста и обычно включают от 3 до 20 страниц и до 100 пунктов.
Авторские права : Исключительное, охраняемое законом право, среди прочего, на воспроизведение и распространение произведений оригинального выражения. Выражение — это ваш собственный уникальный способ выразить идею, рассказать историю или создать произведение искусства.Согласно закону об авторском праве, создатели обладают авторскими правами на книгу или другое литературное произведение с момента, когда они записывают слова на бумаге, в компьютерный файл или на другой материальный носитель. Защита авторских прав на произведения, созданные после 1 января 1978 г., обычно длится до 70 лет после смерти автора. Авторское право на произведения, созданные предприятиями или до 1978 года, может длиться 95 лет с момента публикации. После того, как произведение больше не защищено, оно переходит в общественное достояние.
Kill Fee : Платеж, который может быть произведен автору или иллюстратору, когда издатель отменяет проект.
Опционная статья : Пункт в издательском соглашении, дающий издателю право рассмотреть вопрос о приобретении следующей книги автора до того, как это смогут сделать другие издатели.
Разрешения : Соглашения от правообладателей, дающие право кому-либо другому воспроизводить их работу. Авторы, которые хотят сделать отрывки из чужой работы в своей книге, могут быть обязаны в соответствии с законом об авторском праве получить разрешения.
Общественное достояние : Продукты человеческого разума? например книги, изобретения, компьютерные программы, песни, фильмы и другие произведения? часто принадлежат создателю как «интеллектуальная собственность», что означает, что создатель может контролировать использование произведения, например воспроизведение.Интеллектуальная собственность признается в соответствии с законами об авторском праве, патентах, товарных знаках и другими законами. Если произведение не охраняется законом как интеллектуальная собственность (возможно, потому, что срок его защиты истек), оно считается «общественным достоянием». Кто угодно может воспроизводить, продавать или иным образом использовать произведение, являющееся общественным достоянием, без получения разрешения.
Права / дополнительные права : Некоторые из множества различных способов распространения книги включают в себя книжные клубы, переводы на иностранные языки, отрывки из газет и журналов или экранизацию фильмов.Права на распространение книги в одной из этих или других расширенных форм называются «дополнительными правами». Если издатель передает дополнительные права другой компании на их использование, выручка от лицензии распределяется между автором и издателем. Иногда издатель напрямую использует дополнительные права, например, продавая свое собственное издание книжного клуба. Если автор отказывает издателю в этих правах, а агент автора передает права напрямую сторонней компании, автор оставляет за собой всю выручку за вычетом комиссии агента.
Роялти : процент, получаемый автором или иллюстратором от выручки от продажи каждого экземпляра книги.
>> наверх
Маркетинг и реклама
Подписание книги : разрекламированное мероприятие, часто проводимое в книжных магазинах или книжных ярмарках, на котором автор читает и обсуждает книгу автора и раздает автограф на книге покупателям.
Прямая почтовая рассылка : продвижение книг путем отправки брошюры, флаера, открытки или других печатных материалов непосредственно группе потенциальных покупателей.
Фэнтези : Тип художественной литературы, которая отклоняет или выходит за рамки правил известного мира, позволяя такие условности, как путешествия во времени, говорящие животные и сверхчеловеческие существа.
Художественная литература : Написание, которое исходит от воображения, или письмо, не придерживающееся фактов, относящихся к истинным событиям.
Жанр : особая категория книг, например исторические, романтические или научно-фантастические.
Историческая фантастика : Произведения, в которых персонажи являются вымышленными, но сеттинг и другие детали уходят корнями в реальную историю.
Маркетинг : согласованные усилия по продвижению и рекламе со стороны издателя для увеличения продаж книг населению и распространителям.
Медиа-кит / Пресс-кит : Папка рекламных материалов, используемая для объявления информации о готовящейся книге в средствах массовой информации и других целевых изданиях. Комплекты для СМИ могут включать выдержки, обзоры, цитаты людей, хвалящих работу, и пресс-релизы.
Монография : научное сочинение (часто длиной в книгу), посвященное подробному, но часто ограниченному предмету.
Нишевый маркетинг : Маркетинг и продвижение книги определенной группе покупателей, например людям из определенного географического региона или людям с определенным хобби или интересами. Книги, изданные для нишевого рынка, могут продаваться на национальном уровне, но в основном они продаются через специализированные розничные точки.
Документальная литература : «Правдивое» письмо, в котором автор пересказывает реальные события.
Пресс-релиз : письменное объявление, призванное привлечь внимание СМИ к конкретному событию или запуску продукта.
Целевая аудитория : Определенная группа читателей, которая, вероятно, заинтересуется конкретной книгой.
>> наверх
Части и виды книг
Послесловие : Заключительные замечания по теме книги или процессу написания книги. Этот материал может быть написан кем-то, кроме автора.
Приложение : Дополнительная информация в конце книги, которая может включать таблицы и статистическую информацию.
Биография автора / иллюстратора : Личная информация и достижения автора и / или иллюстратора.
Back Matter : Все печатные материалы, которые появляются на обратной стороне книги после основного экземпляра. Задний материал может включать послесловие, приложение, библиографию, колофон, глоссарий и указатель.
Библиография : список книг или статей, цитируемых автором как ресурсы.
Переплет : задняя обложка, корешок (центральная панель, которая соединяет переднюю и заднюю обложки со страницами и обращена наружу, когда книга поставлена на полку) и передняя обложка книги.Переплет — это то, что скрепляет книгу. Типы переплета включают переплет коробки, переплет гребенкой, идеальный переплет, сшивание внакидку, спиральное переплетение и велосвязывание.
Настольные книги : Маленькие, часто квадратные книги, предназначенные для младенцев и детей ясельного возраста и состоящие из небольшого количества толстых страниц.
Основной текст : Большая часть текста книги, расположенная между лицевой и оборотной стороной.
Colophon : Краткий перечень производственной информации, часто включающий детали шрифта и информацию, относящуюся к любому произведению искусства.
Авторское право Страница : страница в начале книги, которая указывает, что книга защищена авторским правом, и что необходимо получить разрешение на воспроизведение всей или части книги. Обычно эта страница также включает данные каталогизации библиотек.
Посвящение : Выражение признательности или комплиментов автора конкретному человеку или группе людей, которым посвящена книга.
Штрих-код EAN : Этот штрих-код представляет собой номер ISBN, переведенный в машиночитаемую форму.Линии электронного сканирования, напечатанные на задней обложке или обложке книги, содержат информацию о книжном продукте, такую как название, издатель и цена.
Предисловие : Введение в книгу, обычно написанное кем-то, кроме автора книги.
Front Matter : Все страницы книги, которые появляются перед основным текстом. Типы титульного листа включают титульный лист, страницу с авторскими правами, посвящение, оглавление, предисловие, предисловие, подтверждение и введение.
Фронтиспис : Иллюстрация перед первыми страницами книги.
Глоссарий : список терминов и определений, относящихся к теме книги.
Твердый переплет : Обычно сшитые и склеенные книги в твердом переплете затем переплетаются с картонными обложками, которые укрепляются жесткой тканью, а затем накрываются бумажной суперобложкой.
Указатель : алфавитный список конкретных тем и ключевых слов в книге (особенно имен, мест и событий) и страниц, на которых они упоминаются.
ISBN (международный стандартный номер книги) : всемирная нумерованная система идентификации, которая предоставляет издателям стандартный способ нумерации своих продуктов без дублирования другими издателями. «ISBN» также относится к самим номерам ISBN. Первая часть ISBN определяет язык публикации («0» для английского), а вторая часть идентифицирует издателя. Следующая строка цифр в ISBN идентифицирует сам книжный продукт, за ней следует цифра, специально рассчитанная для обеспечения целостности ISBN.
ISSN (международный стандартный серийный номер) : всемирная система нумерации периодических изданий и другой серийно выпускаемой продукции.
Переплет библиотеки : более прочный переплет в твердом переплете с тканевым усилением и часто другим методом шитья.
Мягкая обложка для массового рынка : Книга в мягкой обложке меньшего размера (4 и 3/16 «x 6 и 3/4»), обычно печатаемая на бумаге низкого качества и выпускаемая в большом количестве по более низкой цене, чем торговая книга в мягкой обложке.Тематика этих книг обычно соответствует текущим популярным потребностям рынка. Помимо размещения в книжных магазинах, эти книги, так называемые «размером с полку», часто распространяются через аптеки, аэропорты и супермаркеты.
Предисловие : Вводная часть книги, обычно написанная автором. Может содержать информацию о том, почему была написана книга или как ею пользоваться.
Оглавление : Список тем, затронутых в книге, с разбивкой по главам и / или разделам, включая соответствующие номера страниц.
Титульная страница : Правая (или «лицевая») страница с нечетным номером, на которой указаны название книги, подзаголовок, имя автора, издатель и город, в котором она была опубликована.
Торговая обложка в мягкой обложке : Торговая книга в мягкой обложке больше, чем книги в мягкой обложке для массового рынка, и переплетена с плотной бумажной обложкой. Часто они того же размера и имеют ту же обложку, что и издание в твердом переплете. Торговые книги в мягкой обложке обычно переплетаются только клеем.
>> наверх
Производство и дизайн
Bluelines : Также именуется «Блюз.«Фотокопия этого принтера, созданная принтером, представляет собой черновой макет всех страниц книги, напечатанных с последних листов. Синяя линия дает последнюю возможность обнаружить ошибки и внести незначительные исправления до того, как книга будет отправлена в печать. Если необходимы изменения, они должны быть внесены в пленку, что может быть дорогостоящим.
Производство книг : Полный процесс набора книги, ее печати, переплета, а затем упаковки для отправки. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Макет : Общий дизайн страниц книги, включая расположение текста, иллюстраций, графики, заголовка, номеров страниц и шрифта / гарнитуры.
Переполнение : Избыточное количество книг, когда тираж превышает заказанный. Эти дополнительные копии печатаются для компенсации возможной порчи. Если предполагаемого брака не происходит, издателю иногда требуется приобрести дополнительные копии у принтера.
PP&B : Бумага, печать и переплет. Составляет основную часть общих затрат, связанных с изготовлением книги.
Допечатная подготовка : различные шаги, необходимые для подготовки книги к отправке на принтер.Может включать сканирование изображений, создание пробных отпечатков, соответствие цветовых характеристик требованиям принтера и многие другие действия.
Ошибки принтера : Ошибки, допущенные принтером во время производства, такие как пятна, мазки и кляксы на страницах.
Proofs : Полный набор страниц книги для просмотра перед тем, как книга будет опубликована.
Порча : Планируемые бумажные отходы. Принтеры оценивают брак на десять процентов.
Удаление : размещение всех компонентов макета на подписи (большие листы бумаги, которые печатаются в количестве, кратном четырем, которые при сгибании и обрезке становятся страницами в книге) для создания шаблонов для изготовления печатных форм.
Прозрачные пленки : фотографии или изображения появляются на прозрачном материале (например, слайдах), а не на непрозрачном материале (например, бумаге).
Размер обрезки : внешние размеры (по горизонтали и вертикали) готовой книги.
Недогруз : Готовый заказ, содержащий меньше книг, чем запрошено. Недобор может произойти из-за чрезмерной порчи во время печати или из-за ошибок принтера.
>> к началу страницы
Издательство
Предварительные копии : Первые готовые книги (до широкого распространения книги), предназначенные для выполнения предварительных заказов и специальных запросов.
Список : Книги прошлых сезонов, которые все еще печатаются.Список бэклистов издателя обеспечивает значительный источник дохода, поскольку продажи заголовков из бэклистов часто оказываются более стабильными, чем продажи в переднем списке.
Отдел : Филиал издательской компании. Некоторые крупные издательства состоят из нескольких отделений.
Dummy : грубый макет книги, который обычно показывает, где будет размещаться вся обложка, текст и иллюстрации, а также оборотная сторона. Некоторые манекены включают в себя реальные наброски и изображения.
Frontlist : Все книги, выпущенные в текущем сезоне и включенные в последний каталог издателя.
Гранки или Advanced Reader’s Edition / Copy (ARE или ARC) : Отформатированные в виде книги, переплетенные гранки обычно создаются после того, как рукопись была набрана, но до того, как она была вычитана. Эти издания используются публицистами для рассылки рецензентам, дистрибьюторам и книжным клубам, которые хотят видеть копии книг за три или четыре месяца до их официальной даты публикации. Некоторые издатели классифицируют книги с полноцветными обложками как ARC или ARE, а книги с простыми обложками — как гранки.
Выходные данные : Идентификационное название определенной серии книг, доступных от издателя. У издателей может быть много выходных данных.
Дата поступления в магазин или поступления в продажу : Дата, когда продукт поступает в магазины и кладется на полки для покупки потребителями.
Список : книги, предназначенные для публикации в определенный сезон продаж (например, осенний сезон, зимний сезон или весенне-летний сезон).
Средний список : Книги с сильным интеллектуальным или художественным уклоном, которые имеют шанс на значительный успех, но не считаются бестселлерами.
OP / Out of Print : Когда издатель не имеет под рукой экземпляров книги и не намеревается ее перепечатывать.
OSI / Нет в наличии на неопределенный срок : Когда издатель не имеет под рукой копий определенного названия, но может пожелать перепечатать его в будущем.
Предварительная публикация : Этот термин обычно используется в сочетании с другими терминами, такими как предварительные затраты или предварительные предложения. Предложения до публикации могут быть сделаны с особыми стимулами для стимулирования первоначального спроса или для того, чтобы узнать достаточно, чтобы спрогнозировать уровень отклика после публикации.
Дата публикации («Дата публикации») : Дата, когда издатель объявляет, что конкретный продукт будет доступен. Обычно дата паба устанавливается на несколько дней после поступления книги в магазины, чтобы обеспечить своевременное начало маркетинга и рекламы.
>> наверх
Продажи
Сети : Крупные компании, владеющие множеством книжных магазинов под одним и тем же названием. Двумя крупнейшими сетями книготорговли в США являются Barnes & Noble и Borders.«Супермаркет» содержит 100 000 или более наименований товаров и может включать в себя кафе и другие удобства.
Co-op Money : Расходы продавца на продвижение книг издателя. Затем издатель возмещает совместные деньги.
Дистрибьютор : Компания, которая занимается складированием, каталогами, маркетингом и продажей книг книжным магазинам, библиотекам и оптовым торговцам от имени ряда небольших издательств, консолидируя эти расходы.
Publishers Group West (www.pgw.com) — крупнейший эксклюзивный дистрибьютор независимых издателей в Северной Америке. Publishers Group West, входящая в десятку ведущих продавцов книг в стране, представляет более 150 независимых издателей.
Национальная книжная сеть
(www.nbnbooks.com) — крупнейший независимый дистрибьютор в Северной Америке. NBN предоставляет услуги по продажам, маркетингу, выполнению заказов, кредитованию и инкассо независимым издателям коммерческой художественной и научно-популярной литературы.
Независимые продавцы книг : Розничные магазины, не принадлежащие крупным компаниям, продающие книги широкой публике.
Продажи в учреждениях : Продажа книг преимущественно школам и библиотекам, особенно издательствами детских книг.
Прейскурантная цена : Цена обложки книги, также называемая «розничной» ценой.
Остальные копии : Копии книги, которые сильно обесцениваются из-за быстрого оборота, часто из-за медленных продаж или переизбытка запасов.
Возвращает : непроданные копии книги, которые возвращаются издателям от продавцов книг.В большинстве случаев продавцу книг разрешается вернуть любые непроданные книги издателю для получения полного возмещения.
Звонок по продажам : Регулярные встречи между торговыми представителями издателя и потенциальными покупателями. Во время этой встречи используется каталог названий первых листов и оформляется заказ на закупку (ЗП).
SAN (стандартный номер счета) : номер, присвоенный библиотекам, школам и другим организациям, которые покупают, продают или сдают книги во временное пользование.
Специальные продажи : Нетрадиционные продажи в торговых точках, которые не специализируются на розничной торговле книгами (от сувенирных магазинов до зоомагазинов, организаций и т. Д.).
Торговый книжный магазин : Книготорговец, распространяющий книги среди широкой публики. Некоторые торговые книжные магазины включают супермаркеты, сетевые магазины, независимые книготорговцы и интернет-магазины.
Оптовик : Компания, которая покупает книги в больших количествах у издателей с высокими скидками и продает их книжным магазинам и библиотекам со средней скидкой.
Baker & Taylor (www.btol.com) — ведущий оптовый продавец книг, видеоклипов и музыкальной продукции для библиотек, а также традиционных и интернет-магазинов.Компания работает более 170 лет и ежегодно отгружает более 1 миллиона уникальных номеров ISBN.
Ingram Book Group (www.ingrambookgroup.com) — ведущий оптовый продавец книг, аудиокниг и периодических изданий для книготорговцев, библиотекарей и специализированных розничных продавцов. База данных компании содержит более 1,8 миллиона наименований.
>> наверх
Типы детских книг
Книги раздела : Категория книг, предназначенная для детей в возрасте от 9 до 12 лет.В то время как книги по главам часто отображают один штриховой рисунок на главу, они в основном используют текст для рассказа истории.
Concept Book : Книжка с картинками для детей дошкольного возраста, в которой делается попытка обучить основным концепциям. Многие концептуальные книги содержат иллюстрации или другое искусство и содержат всего несколько слов на странице. Концептуальные книги часто фокусируются на знакомстве детей с такими предметами, как алфавит, цвета, формы и размеры.
Ранние читатели / Легкие читатели / Книги для начинающих : Эти книги предназначены для детей в возрасте 8-11 лет, которые растут из книжек с картинками.Книги обычно занимают около 64 страниц и содержат значительное количество иллюстраций и контролируемую лексику, призванную помочь детям перейти к книгам по главам.
Hi-Lo Книги : Эти книги сочетают высокий уровень интереса с менее сложным текстом. Книги Hi-Lo часто используются для того, чтобы склонить нерешительных учеников среднего класса к более активному чтению.
Средний читатель : Книги для читателей 9–11 лет.
Книга новинок : Книги со специальными встроенными функциями, такими как всплывающие окна, раскладывающиеся страницы, откидные клапаны или скрытые звуковые чипы.
Книжка с картинками : в первую очередь предназначена для детей от дошкольного возраста до 8 лет. Книжки с картинками содержат картинки или иллюстрации на каждой странице, рассказывая историю с помощью изображений, сопровождаемых несколькими строками текста. Большинство книжек с картинками состоят из 24 или 32 страниц.
Книги YA : Относительно новая категория, Книги для молодежи (YA), чаще всего ориентированы на читателей в возрасте от 12 до 18 лет.
>> наверх
Подарите мою книгу выпускникам колледжей или другим молодым людям — «Серьезные мечты: смелые идеи на всю оставшуюся жизнь» В ПРОДАЖЕ СЕЙЧАС
Серьезные мечты: смелые идеи на всю оставшуюся жизнь под редакцией Байрона Боргера (Square Halo Books) 13 долларов.95
В ПРОДАЖЕ:
1–4 = скидка 10%
5 или больше = скидка 20%
Если вы новый читатель BookNotes, возможно, вы этого не знаете: год назад я выпустил книгу, которую я редактировал, под названием Серьезные мечты: смелые идеи на всю оставшуюся жизнь . Некоторые люди поощряли меня писать и публиковать, хотя создание этих он-лайн обзоров BookNotes и регулярная рассылка их по миру более чем достаточно для меня, чтобы делать каждую неделю.Но когда я был вдохновлен на создание этой книги — мы с Бет сами подготовили проект при поддержке команды Square Halo Books — я собрал его воедино между выставками книг на конференции, поездками и выступлениями, а также днем, чтобы дневная работа в магазине. Наши хорошие сотрудники поддерживали работу 234 East Main Street, и я решил собрать книгу из коротких эссе, вопросов для обсуждения и большого вступления от вашего покорного слуги.
Вы можете прочитать все о серьезных мечтах: смелые идеи на всю оставшуюся жизнь в типично энергичном обзоре BookNotes здесь, где мы впервые объявили и отметили прошлой весной.
Вот суть: два года назад меня попросили произнести речь перед выпускными школами христианского колледжа в Западной Пенсильвании. Они наградили меня почетной докторской степенью, что смутило меня и дало мне шанс излить свое сердце о влиянии высшего образования на молодую христианскую жизнь и о том, как выйти в мир, объединяя то, что было изучено, и то, как я буду жить в нем. мир. Выступление прошло хорошо, и некоторые люди хотели записать стенограмму моей речи, приглашая студентов в жизнь, основанную на 1 Паралипоменон 12:32, — стать сыновьями и дочерьми Иссахара, которые «понимали времена и знали, что должны делать Божьи люди.Мой страстный призыв к собравшимся молодым людям быть готовыми страдать ради правления Бога, понять наш культурный момент и контекст, чтобы использовать их карьеру и призвание (и наследие их особого образования в колледже в этом легендарном месте) ради общего блага использование инструментов, которые научили глубоко думать и хорошо любить, казалось, находило отклик, и я был счастлив, что несколько человек захотели копий.
Один человек сказал, что это прозвучало как программная речь на конференции Jubilee, ориентированной на коллегиально, что, конечно, я воспринял как большой комплимент.
Несколько недель спустя мы с Бет были очень глубоко тронуты, наблюдая за вступительной речью, которую произнесла Клаудия Беверслуис, тогдашняя ректор колледжа Кальвина, которая была основана на стихотворении Венделла Берри и прекрасно описывала ее надежды на то, что студенты глубоко воспользуются четырьмя годами обучения. в колледже, чтобы хорошо служить миру. Я понял, что , что красивых, плодотворных речей нужно печатать и широко читать. ( Вы можете посмотреть его здесь , начало через 1 час.) В тот самый момент, со слезами на глазах, я почувствовал побуждение Бога найти, отредактировать и опубликовать несколько столь же вдохновляющих речей, которые мы могли бы превратить в красивая подарочная книжка для выпускников колледжей.
Как продавец книг и любитель книг, а также тот, кто продвигает чужие произведения, я должен сказать, что это был очень странный и славный день, когда мы распаковали коробку здесь, в магазине, как обычно, но поняли, что это был мой случай. собственный небольшой объем. Наши сотрудники отнеслись к этому как к особому моменту, и мы даже получили торт, чтобы отпраздновать это. Это было ровно год назад.
Мои Серьезные мечты: смелые идеи на всю оставшуюся жизнь — эта книга, в первую очередь предназначенная для выпускников колледжей, но также подходящая для всех, кому за двадцать с небольшим.В прошлом году люди дали его любому количеству людей из всех слоев общества. Но на самом деле он был создан для выпускников, которые поступают на работу или задаются вопросом, что будет дальше, когда они начнут жить в молодом возрасте.
И как приятно было раздавать им автографы, предлагая читателям присниться к мечтам Бога, а я могу персонализировать каждую из них.
Мы хотели, чтобы книга была короткой, но красиво оформленной (и ох, как весело было работать с Недом Бастардом, графическим дизайнером, который управляет Square Halo Books, известный своими красивыми дизайнерскими штрихами во всех своих хитроумных книгах), но с оттенком прихоти , приглашая для младших читателей.
В идеале, это должно быть подарком церкви, наставникам, родителям, друзьям или общественным организациям университетского городка, которые заботились о студенте на протяжении многих лет.
(Если ваша церковь не чтит своих выпускников колледжа, вы можете заняться этим как срочным проектом на следующей неделе или около того!)
Серьезные мечты: смелые идеи на всю оставшуюся жизнь компактный, приятный на ощупь, с легким матовым оттенком и бумага с легким кремовым оттенком.Случайные изображения листьев и желудей на всем протяжении отсылают к обложке с изображением могучих дубов. Ладно, может быть, это слишком большие надежды, но мы действительно думаем, что чтение серьезных христианских размышлений о переходе от высшего образования к миру работы и государственной службы поможет молодым людям найти свой путь, увидеть свою жизнь (всю свою жизнь, каждый квадратный дюйм его) как театр Божьей работы. Есть пьянящие фолианты о связи Евангелия с призванием и Божьей благодати с миссионерскими видениями грядущего Царства.Существуют христианские книги по самопомощи, которые помогают людям научиться становиться такими, какими они должны быть. Эта небольшая книга содержательна и милосердно кратка, красиво написана и, тем не менее, соответствует Земле. Мы думаем, что ничего подобного нет, что делает его очень хорошим выбором для молодых взрослых читателей.
Мы только что отредактировали второе издание, исправив опечатки и компьютерные сбои, и исправили несколько грамматических затруднений, которые хорошо работали, когда речи были впервые произнесены вживую, но которые нам нужно было немного улучшить печатную страницу.Мы постарались сохранить энергичный тон выступлений, которые были даны вживую для реальной аудитории, но нам нужно было немного привести их в порядок, чтобы сделать их лучше, как книгу. Мое собственное было немного сложно редактировать, так как, ну, скажем так, было над чем поработать. Ха.
Я очень признателен авторам, которые представили доклады, записанные в этой небольшой книге. Я очень, очень благодарен за их щедрость, позволившую мне редактировать их работы для публикации. Я лично знаю почти каждого из этих авторов / руководителей и годами изучал все их работы; В некотором роде я сказал некоторым людям, что Serious Dreams — это учебник по Hearts & Minds.Эти авторы очень много значат для меня, чье «видение призвания» и чьи собственные серьезные мечты сформировали мои собственные. Если вы цените что-либо в нашей работе здесь, в магазине, или в книжных дисплеях, которые мы делаем на мероприятиях, или если вы находите наши обзоры BookNotes чем-то полезными, я думаю, вам понравится читать эту тщательно подобранную коллекцию глав, независимо от того, недавно вы закончили школу или нет. .
Ненавижу показаться назойливым, но маленькое инди-издательство, которое проделало такую хорошую работу, создавая это для нас, не имеет большого бюджета на рекламу.У нас нет PR-агентств, агентов или маркетологов. Я рассчитываю на поклонников и друзей Hearts & Minds, которые помогут нам рассказать об этом. Я прошу вас подумать о покупке нескольких из них и распространении новостей. (Есть ли в вашем районе независимый книжный магазин, который, возможно, захочет приобрести несколько книг этой весной?) Я думаю, вы не будете разочарованы, и я уверен, что те молодые люди, которые его читают, будут склонны — возможно, решительно — думать и более преданно заботиться о своей жизни, своих мечтах, своих увлечениях и своем призвании.
Вот названия глав и имена великих ораторов, которые их произнесли:
Живи хорошо, будь честным, творите добро Введение Байрона Боргера
В этом введении я обрамляю идеи книги и напоминаю молодым людям, что начинать с малого и жить на местном уровне с внимательным чувством места — это хорошо и хорошо. На самом деле нам не нужно менять мир. «Маленькие вещи с большой любовью», — сказала однажды Мать Тереза.Мне было очень приятно получить ответ от некоторых читателей, которые нашли эту главу особенно полезной, особенно с учетом того, что они сталкиваются с менее чем вдохновляющими обстоятельствами. Все будет хорошо…
Что это такое Ричард Дж. Моув
Рич Моув — плодовитый писатель и герой для многих, кто хочет «мыслить по-христиански» и связывать евангельскую веру с общественной жизнью гражданским и плодотворным образом. Эта красивая глава напоминает молодым выпускникам о том, что они должны помнить то, чему они научились в студенческие годы, и проживать это в реальном мире во славу Христа.Он простой, ясный и восхитительно убедительный. Моув — ученый Кайпера и бывший президент Фуллерской теологической семинарии, и это очень хорошая вступительная глава.
Вам нужны два глаза Николас Вольтерсторфф
Пожалуй, один из выдающихся философов, работающих в современном мире, эта очень полезная глава убедительно напоминает нам, что нам нужны как компетентность, так и сострадание, христианское превосходство в правильном мышлении и добродетель заботы о больных.Я прочитал это десяток раз, и это меня до сих пор вдохновляет. Один читатель написал и сказал, что одна только эта глава стоит цены книги!
Радуйтесь своему сообществу Эми Л. Шерман
Г-жа Шерман выступила с этим очень оптимистичным и вдохновляющим докладом, опираясь на идеи из своей превосходной книги Kingdom Calling: Профессиональное управление для общего блага. Эта глава приглашает нас ко многим значениям из Притч 11:10, которые напоминают нам, что верность Богу должна быть связана со служением обществу, отвечая на нужды страдающего мира.Ее более длинная книга — или даже эта замечательная маленькая глава — если воспринимать ее всерьез, она может изменить то, как мы думаем о нашей работе, и действительно может изменить нашу часть мира!
Память в семени Клаудиа Беверслуис
Я заметил, что эта речь, произнесенная в Колледже Кальвина в Гранд-Рапидсе, штат Мичиган, так вдохновила нас с Бет составить эту книгу и сделать ее центральным элементом. (Поговорим о смелой идее — я не могу поверить, что мы на самом деле ее реализовали!) Использование Клаудией стихотворения Венделла Берри само по себе прекрасно, и призыв к долгосрочному, всестороннему, изменяющему культуру ученичеству бесценен.Она сказала, что миру нужны вы, и она права. Вы действительно в это верите? Верят ли этому молодые люди, которых вы знаете? Как они могут использовать лучшие видения вашего прошлого, когда вы добродетельно и глубоко продвигаетесь к будущему, будущему Бога? Какие «тяжело заработанные» воспоминания мы несем с собой?
Общая благодать для общего блага Стивен Гарбер
Я полагаю, вы знаете, что Гарбер — один из моих хороших друзей, и две его книги ( Ткань верности: сплетение веры и поведения и Видения призвания: Общая благодать для общего блага ) относятся к числу моих собственных личные фавориты.Он морально серьезен, всегда красноречив, проводя здесь глубокие связи между библейским использованием слова завет и видами работы и экономикой, которую мы хотим представить в наше время. И он цитирует Венделла Берри и U2. Это обращение было произнесено в Теологической семинарии Завета в Сент-Луисе и, хотя оно предназначено для тех, кто собирается заниматься служением, оно содержательно и предлагает всем нам продуманные слова и важные идеи.
Три «Ура» для сыновей и дочерей Иссахара Байрон Боргер
Вот тот, в котором я проповедую о культурной значимости, личном преобразовании, интеграции веры и обучения, о необходимости горящих сердец и прочного, последовательного мировоззрения, несмотря на все трудности, свидетельствуя о путях Бога во всех сферах жизни.Для меня было большой честью рассказать о наследии Женевского колледжа в продвижении Царства Христа и о том, как это может вдохновить простых людей на то, чтобы жить своей верой в суровых условиях постхристианского общества. И я рассказываю о Махалии Джексон, поющей Мартину Лютеру Кингу, задолго до той великой сцены в Selma. Надеюсь, вам понравится.
Три дороги и три рупии Джон М. Перкинс
Надеюсь, вы знаете Джона Перкинса, евангелиста из Миссисипи, лидера гражданских прав, наставника по расовому примирению и защитника социальной справедливости, который получил несколько почетных докторских степеней, несмотря на то, что у него всего лишь третьеклассное образование.Многие из нас считали меня настоящим старшим государственным деятелем, и с самого начала я подумал, что если бы я писал такую книгу, я бы не стал делать это без участия доктора Перкинса. Для меня было честью, что он прочитал нам свою исключительную проповедь на выпускных церемониях в Тихоокеанском университете Сиэтла. Возможно, вы слышали или читали в его многочисленных книгах о его видении трех рупий, но его послание о «трех дорогах» было совершенно новым и просто фантастическим. Точно — мы все должны быть на этих трех дорогах: Дамаск, Эммаус и Иерихон.
Launch Out, Land Well Эпилог Эрики Янг Рейц
Проповеди, предлагаемые в Serious Dreams , захватывающие и стимулирующие, провокационные и вдохновляющие.Я думаю, что небольшие вопросы для обсуждения после каждого будут полезны. В предисловии к общей картине, хрипловатым сообщениям книги я обратил внимание на более тихий призыв жить хорошо в нашем собственном уникальном контексте, приглашая читателей прислушиваться к своему сердцу и обращать внимание на мелочи. Тем не менее, я хотел еще один отрывок в книге, эпилог мудрого гида, который поможет молодым взрослым хорошо переходить с некоторыми ясными практическими советами. Эрика Янг Райц — дорогая подруга, чья собственная книга После колледжа: навигация по переходам, отношениям и вере выходит в августе 2016 года.Эрика служила в колледже вместе с CCO, наставляя пожилых людей, помогая им хорошо «стартовать». Мы очень рады этому практическому послесловию. Ее предложения хороши для тех, кто бросает колледж или, вообще-то, для всех, кто находится в период перемен или переходного периода. Спасибо, Эрика.
Мы будем рады, если вы поддержите нашу работу, заказав одну из моих книг Серьезные мечты . Мы думаем, что эти произведения сильны, а основные главы написаны христианскими лидерами, которые, безусловно, являются одними из самых важных женщин и мужчин, пишущих в наши дни.(Мои собственные работы исключены, хотя я горжусь обеими своими главами.) Все главы без исключения красиво написаны и вдохновляют, каждая из которых предлагает видение христианской веры как связного мировоззрения и жизненного взгляда, призванного впереди жизнь крепкого и милостивого ученичества. Это предлагает веру, которая является образом жизни, достаточно сильным, чтобы помочь молодым людям не только преуспевать в их переходе к взрослой жизни после учебы, но и приходить к желанию, чтобы Бог использовал их, чтобы повлиять на мир, большим и малым.Я считаю, что название хорошо отражает эту смелую идею: мы предлагаем очень серьезные мечты. До конца твоей жизни.
Могу я попросить вас поделиться этим с теми, у кого может быть бюджет или причины покупать подарки для молодых людей в вашей церкви или сообществе? Было бы здорово подписать пачку этих писем и разослать их с любовью и большой надеждой. Спасибо большое.
BookNotes
СПЕЦИАЛЬНАЯ СКИДКА
Серьезные мечты:
Смелые идеи на всю оставшуюся жизнь
(Square Halo Books) 13 долларов.99
Скидка 10%
ИЛИ
ЗАКАЗАТЬ ПЯТЬ ИЛИ БОЛЬШЕ
СКИДКА 20%
закажите здесь
приведет вас к безопасной странице формы заказа Hearts & Minds
просто скажите нам, что вы хотите
спросите здесь
если у вас есть вопросы или вам нужна дополнительная информация
просто спросите нас, что вы хотите знать
Hearts & Minds 234 East Main Street Dallastown, PA 17313 717-246-3333
Писатель по рождению Фопин Бай Чжунде выиграл 2-ю премию «Культура гигантской панды»
Писатель, родившийся в Фопинге, Бай Чжунде (первый слева) выиграл 2-ю премию Giant Panda Culture.
Culture and Art Network-Culture and Art News (все СМИ репортер Лю Цин) от Сычуаньской ассоциации содействия экологическому и культурному строительству гигантской панды, Giant Филиал управления национального парка Панда в Яань, Национальный парк гигантской панды Филиал в Ганьсу Байшуйцзян, филиал в Национальном парке гигантской панды и Сеть гигантских панд совместно учредили вторую премию Giant Panda Culture Award, которая была вручена в Яане, Сычуань, 24 апреля.В списке значится Бай Чжунде, писатель из Фопина, Шэньси и доцент Школы свободных искусств Сианьского университета финансов и экономики.
Премия Giant Panda Culture Award стремится стать высшей отраслевой наградой в области экологии гигантских панд и культурного строительства. Он выбирается каждые два года. Он направлен на использование гигантских панд, чтобы рассказать историю Китая, распространить голос Китая и продвигать биоразнообразие мира, представленного гигантскими пандами.Причина сексуальной защиты процветает. Он выражает признательность отдельным лицам и подразделениям, которые внесли большой вклад в области научного образования, защиты и управления средой обитания панд, научных исследований и культурного строительства, а также поощряет и побуждает больше социальных сил участвовать в защите флагманских видов панд. Выбор второй премии Giant Panda Culture Award стартовал в ноябре прошлого года. После предварительной оценки, переоценки и огласки, 12 единиц или отдельных лиц были награждены премией за сохранение гигантской панды, премией за научные исследования гигантской панды, премией в области культурной коммуникации и наградой Страж деревни панд, благотворительной премией гигантской панды. .Бай Чжунде, писатель из Фопинга и доцент Школы искусств Сианьского университета финансов и экономики, выиграл премию Giant Panda Cultural Communication Award, отметив, что создание Бай Чжунде экологической прозы Qinling Giant Panda получило признание и признание в отрасли. .
Бай Чжунде — уроженец Циньлин. Он вырос в Фопинге. Несмотря на то, что он был принят в университет и остался преподавателем, он стал адъюнкт-профессором Школы литературы Сианьского университета финансов и экономики, секретарем комитета по молодежной литературе Общества прозы Шэньси и Ассоциации писателей района Бейлинь. , Сиань. Вице-председатель и исполнительный директор Сычуаньской ассоциации содействия экологическому и культурному строительству гигантских панд, он коренится в горах Циньлин и всегда заботился о защите и развитии гигантских панд Циньлин.Он много раз возвращался в свой родной город, чтобы испытать и собрать пейзажи, и он в полной мере ощутил красоту экологии гигантской панды. Он создал большое количество литературных произведений, отражающих изменения его родного города, обычаев, красивой человеческой природы и экологических характеристик гигантских панд, отражающих красоту и очарование гор Циньлин, выражающих уважение к жизни и призывающих к гармонии между людьми. и природа.
Эти работы получили признание и похвалу со стороны общества, СМИ и коллег, а также более 10 раз отмечены различными наградами.Сборник прозы Циньлин об экологии животных «Мой сосед Циньлин» был напечатан три раза подряд и собраен более чем 100 провинциальными и известными университетскими библиотеками, такими как Национальная библиотека и Библиотека Пекинского университета. Он выиграл 7-ю премию Bingxin Prose Award, премию Yanoda в номинации на премию экологической литературы, Ежегодные награды Ассоциации писателей Шэньси за выдающиеся литературные работы и т. Д. Покойный Чэнь Чжунши, известный писатель и вице-председатель Ассоциации китайских писателей, однажды прокомментировал: «Из этого сборника я понимаю добрые намерения писателя Бай Чжунде в отношении гармоничного сосуществования людей с животными и миром природы.Это своего рода прекрасное чувство, к тому же благородное. Цзя Пинва, вице-председатель Ассоциации китайских писателей и председатель Ассоциации писателей провинции Шэньси, считает, что его сочинения «живые и чувственные, резкие, не отрывистые, тихие в письменной форме, но, не раскрывая, он скрывает свое мнение, любит и ненавидит. в тексте. … В тот момент, когда отношения между человеком и природой являются напряженными и противоречивыми, чувства и ответственность Бай Чжунде, призывающие к гармоничному сосуществованию человека, животных и природы, стали более уважаемыми и ценными.»Книга была выбрана в качестве первой премии Wu Boxiao Prose Award, 33-й премии издательства China City за выдающуюся книгу и была выбрана в качестве основного рекомендательного каталога для книжного магазина National Farm, составленного Национальным управлением прессы и публикаций.
В дополнение к Создав экологическую литературу Циньлин, Бай Чжунде также отправился в государственные учреждения, школы и другие подразделения, чтобы продвигать культуру гигантских панд Циньлин. Его пригласили в Сианьский университет финансов и экономики, Центр фруктовой промышленности Шэньси, Начальную школу, связанную с Сычуаньский университет и Фопин.Окружная средняя школа и другие подразделения сделали отчеты о продвижении гигантских панд Циньлин и Циньлин.

Добавить комментарий